Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Серьезное прочтение романических вымыслов
Книга французской исследовательницы Жюдит Лион-Каэн «Чтение и жизнь. Как читали романы в эпоху Бальзака»[1] основана на уникальном материале — корпусе писем (по большей части неизданных) читателей к двум писателям: Бальзаку и Эжену Сю. Анализ этих писем позволил Лион-Каэн прийти к весьма нетривиальным выводам: дело в том, что во Франции с середины 1830-х годов многие влиятельные критики вели активную «антироманную» кампанию. Критики упрекали романистов в том, что они своими сочинениями развращают публику и толкают читателей на преступления. Оппоненты романного жанра называли романы «отравой», «ядом», причем эти слова имели не только метафорический смысл: порой на реальных судебных процессах круг чтения обвиняемого рассматривался в качестве обстоятельства, толкнувшего его на преступление. Вредоносное действие романов становилось даже предметом обсуждения в парламенте. История этого «антироманного» дискурса более или менее известна. Между тем Лион-Каэн на основе читательских писем показывает, что читатели воспринимали роман совершенно не так, как это представлялось критикам. Читателей Бальзака и Эжена Сю роман не только не уводил от действительности в область химер, но, напротив, возвращал их к реальной жизни и подсказывал «социальные формулы» для ее объяснения. Тот «литературоцентризм», который в России обычно считают чисто российской реалией, в описываемый период был широко распространен во Франции. Из публикуемого ниже фрагмента книги Жюдит Лион-Каэн (р. 170—189) видно, что публика 1840-х годов читала «всерьез» даже такой образец остросюжетной литературы, как роман Эжена Сю «Парижские тайны» (1842—1843).
Поучительный реализм
В письмах читателей к Бальзаку и Эжену Сю отзвуки критической дискуссии о романе встречаются очень редко; лишь один читатель Бальзака, Поль Сенегаль, пишет, что «возмущен нападками прессы» на романиста. Дело происходит в декабре 1839 года; пятью месяцами раньше, в июле того же года, Бальзак разорвал отношения с журналом «Ревю де Пари», и вскоре там были опубликованы две разгромные статьи о нем: вначале издевательский отзыв Жюля Жанена о «Провинциальной знаменитости в Париже», а затем, в ноябре, — пространная филиппика молодого критика Жака Шод-Эга, который объявил, что ему смешны претензии Бальзака на «всестороннее изучение нравов нынешнего века и абсолютно точное их изображение». Шод-Эг, как и Жанен, утверждал, что романы Бальзака полны «водянистых описаний», от которых у читателя «пухнет голова»[2]. Под конец Шод-Эг рекомендует Бальзаку «вновь погрузиться в то тоскливое романное болото, из которого он вынырнул» и избавить публику от своего «назойливого присутствия».
Поль Сенегаль представляет собою исключение. Все остальные читатели, пишущие Бальзаку и Эжену Сю, не реагируют на отрицательные отзывы о творчестве двух романистов напрямую. Однако многие из них возражают критикам косвенно, замечая, что нарисованные романистами картины не только совершенно точны, но и глубоко нравственны. Так, один из читателей романа Сю «Вечный жид» хвалит романиста за то, что он «украсил добродетель», а сочинение его причисляет к «полезным», употребляя термины, от которых не отказались бы самые суровые блюстители нравственности из числа критиков: «Если существуют на свете книги пагубные, авторы которых, войдя в доверие к юношеству, коварно развращают его и напитывают, подобно отравленному источнику, безнравственными максимами и губительными советами, если существуют на свете книги адские, продиктованные отчаянием и безверием, то существуют, как Вам, сударь, хорошо известно, и книги другого рода, в которых дщерь небес, добродетель, предстает во всем блеске своего возвышенного происхождения: она указывает дорогу к Господу и помогает читателю пройти по каменистым тропам, не смущаясь многочисленными препятствиями и не рухнув в подстерегающие повсюду пропасти; однако ради того, чтобы наставления ее сделались более увлекательными, а значит, более плодотворными и более полезными, она одевает их в одежды самые яркие и самые изысканные»[3]. Жозефина Седийо, другая поклонница Эжена Сю, также восхищается «вдохновенным пером», с помощью которого романист «внушает отвращение к злу»[4]. Эти корреспонденты Сю, как видно по употребляемой ими лексике, прочно усвоили классические модели оценки; другие читатели используют термины более современные и более близкие к языку самих романистов; они, например, одобряют «в высшей степени нравственную и филантропическую цель», которую преследует автор «Парижских тайн», стремящийся «отыскать путь к благополучию для всех классов общества»[5]. Если «нравственная цель романа» была понята не всеми, рассуждает анонимный читатель «Парижских тайн», то лишь потому, что она «скрыта за подробностями ужасающими и отвратительными, хотя, к несчастью, и глубоко правдивыми»[6]; это, однако, не помешает книге произвести «превосходное действие и привлечь взгляды светских людей к невзгодам, которые до сих пор оставались вне поля зрения благотворителей»[7].
 Во всех этих случаях читатели высказывают свои суждения в точном соответствии с программой, намеченной самим Сю: продемонстрировать публике изъяны общественного устройства, обратить внимание «баловней фортуны» на несчастья, о которых они даже не подозревают, и тем самым вдохновить их на благотворительную деятельность, подобную той, какой занимается в «Парижских тайнах» госпожа д'Арвиль. «Вот какой пример хороший для богатых особ, которые от забав скучают, а могли бы запросто себе сделать так много радости, потому что ведь у кого сердце доброе, тому и добро делать как приятно!» — восклицает не слишком грамотная читательница, сообщающая о себе, что она привратница, точь-в-точь как госпожа Пипле[8]. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что Бальзак предоставляет своим читателям куда меньше аргументов для защиты от упреков в безнравственности, чем Эжен Сю; вдобавок сам он эти упреки презирает; в «Предисловии к Человеческой комедии» он признается: «Пусть картины, нарисованные вами, правдивы, пусть вы денно и нощно трудитесь над языком ваших романов — вместо благодарности вам бросают в лицо упрек в безнравственности», — а затем уверяет, не без иронии, что в его сочинениях общее число положительных героев значительно превосходит число отрицательных и что ему не однажды удалось разрешить «труднейшую литературную задачу, состоящую в том, чтобы внушить читателю сочувствие к персонажу добродетельному»[9]. Впрочем, читатели Бальзака это издевательство над примитивным морализаторством критиков оставляют без внимания; оно нисколько не мешает им восторгаться добротою доктора Бенасси из романа «Сельский врач» или «кротостью души» Урсулы Мируэ — единственного персонажа, которого Бальзак в конечном счете вознаграждает за добродетель. «Чтобы сочинение учило добру, надобно, чтобы добро в нем присутствовало; следовательно, надобно включать нравственные истины в сочинения, какими увлекаются массы, а поскольку никого не читают так много, как вас, для общества великая удача, коли вы преподаете читателям уроки нравственности», — пишет житель Осера, не слишком точно представляющий себе численность читателей Бальзака, но зато очень хорошо сознающий, как редко в его творчестве встречается прямое морализаторство[10].
Во всех этих случаях читатели высказывают свои суждения в точном соответствии с программой, намеченной самим Сю: продемонстрировать публике изъяны общественного устройства, обратить внимание «баловней фортуны» на несчастья, о которых они даже не подозревают, и тем самым вдохновить их на благотворительную деятельность, подобную той, какой занимается в «Парижских тайнах» госпожа д'Арвиль. «Вот какой пример хороший для богатых особ, которые от забав скучают, а могли бы запросто себе сделать так много радости, потому что ведь у кого сердце доброе, тому и добро делать как приятно!» — восклицает не слишком грамотная читательница, сообщающая о себе, что она привратница, точь-в-точь как госпожа Пипле[8]. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что Бальзак предоставляет своим читателям куда меньше аргументов для защиты от упреков в безнравственности, чем Эжен Сю; вдобавок сам он эти упреки презирает; в «Предисловии к Человеческой комедии» он признается: «Пусть картины, нарисованные вами, правдивы, пусть вы денно и нощно трудитесь над языком ваших романов — вместо благодарности вам бросают в лицо упрек в безнравственности», — а затем уверяет, не без иронии, что в его сочинениях общее число положительных героев значительно превосходит число отрицательных и что ему не однажды удалось разрешить «труднейшую литературную задачу, состоящую в том, чтобы внушить читателю сочувствие к персонажу добродетельному»[9]. Впрочем, читатели Бальзака это издевательство над примитивным морализаторством критиков оставляют без внимания; оно нисколько не мешает им восторгаться добротою доктора Бенасси из романа «Сельский врач» или «кротостью души» Урсулы Мируэ — единственного персонажа, которого Бальзак в конечном счете вознаграждает за добродетель. «Чтобы сочинение учило добру, надобно, чтобы добро в нем присутствовало; следовательно, надобно включать нравственные истины в сочинения, какими увлекаются массы, а поскольку никого не читают так много, как вас, для общества великая удача, коли вы преподаете читателям уроки нравственности», — пишет житель Осера, не слишком точно представляющий себе численность читателей Бальзака, но зато очень хорошо сознающий, как редко в его творчестве встречается прямое морализаторство[10].
Идеи в романе
Морализаторское прочтение романов Сю и Бальзака — только один из видов их «серьезного» восприятия, противостоящего тому взгляду на роман, какой пропагандировала критика; другая разновидность такого подхода — прочтение «идейное», при котором читатели обращают внимание прежде всего на философское, политическое, экономическое или социальное содержание романа, романной же интригой пренебрегают вовсе или видят в ней не более чем вспомогательное средство. В этом случае персонажи или положения предстают воплощениями тех или иных идей: Жак Ферран из «Парижских тайн» — это «преступление, скрывающееся под видом добродетели»; в «Вечном жиде» Роден — воплощение зла, а Габриэль — «утешение для всех людей, наделенных религиозными верованиями»[11]; по мнению фурьеристки г-жи Барре де Рольсон, главные герои бальзаковского «Сельского священника» доказывают, что «единственная здоровая мораль есть та, которая отвечает потребностям нашей природы»[12], а читательница-сенсимонистка, вдова Далибер, видит в бальзаковском «Деле об опеке» не что иное, как раздумья — к несчастью, не доведенные до конца, — о наследстве[13].
«Идейное» прочтение служит превосходным опровержением излюбленного тезиса антироманной критики 1830—1840-х годов, согласно которому романисты совершенно напрасно «портят самые изящные свои творения туманными теориями и несносными рассуждениями»[14]. Письма к Сю и Бальзаку показывают, до какой степени эти «туманные теории» были востребованы публикой; не случайно один из читателей, Эжен де Монглав, восторженно именует «Парижские тайны» «прекраснейшим философским творением нашего века»[15].
Идеологическое прочтение не всегда совпадало с тем, какое предлагали публике сами писатели. Сю колебался, не зная, к кому примкнуть: к филантропам или к социалистам; поэтому «Парижские тайны» можно читать и в том и в другом ключе. Бальзак претендовал на роль политического мыслителя, однако романы его слишком богаты и многозначны, чтобы служить политическим манифестом. Бальзак изображает адептов различных доктрин, показывает вещи в разных ракурсах, сбивает читателя со следа; интересы повествования оказываются для него важнее идеологии[16]. Тем не менее многих читателей — таких, например, как упомянутая выше фурьеристка г-жа Барре де Рольсон, — гораздо более интересуют проблемы, которые ставятся в его романах, чем варианты их разрешения; подобное восприятие романов указывает на то место, какое отводили им читатели 1830—1840-х годов. Многие из них видели и в Бальзаке, и в Эжене Сю авторов, которые с помощью романного вымысла ставят острейшие вопросы о месте индивида и семьи, религии и собственности, труда и нищеты во французском послереволюционном обществе[17].
Идейное прочтение, точно так же как и прочтение моралистическое, свидетельствует о серьезных намерениях читателей, об их стремлении читать романы не ради того, чтобы следить за интригой или отождествлять себя с романными персонажами. Ленуар, каменотес из Батиньоля, так объясняет свой интерес к романам Эжена Сю: «Я рабочий, у меня для чтения мало времени и еще меньше денег, поэтому я выбираю книги как можно более серьезные, а значит, сами понимаете, романов сторонюсь. Однако я знаю, что попадаются порой романы, свободные от обычных глупостей; они полны настоящей философии и оказывают великую услугу делу прогресса»[18]. Другие читатели отмечают, что одни и те же тексты поддаются различному прочтению; например, Майе, помощник нотариуса, ценит Бальзака за философский смысл его: «Я подумал <...> что вы хотели показать: и того, кто отдался философии, ожидают минуты счастья»; но отстаивает также возможность получать удовольствие от романической интриги: «Я люблю вашу манеру рассказывать, вы изображаете жизнь с точки зрения неожиданной и удивительной, вашу книгу не отложишь, прежде чем не дочтешь до конца, а потом еще долго о ней размышляешь»[19]. Некоторые читатели отделяют завлекательную форму романа от его серьезного содержания. «Литератор» Шайи читает роман Сю «Мартен-найденыш» и находит его менее «блестящим», чем «Парижские тайны», но «более серьезным»[20]. Гюстав Пердро погружается в чтение «Физиологии брака» и обнаруживает в ней, с одной стороны, «приятную болтовню, написанную мастерским пером», а с другой — «глубокие мысли», которые Бальзак «рассеял» в свой книге[21]. Корреспонденты писателей прибегают для описания этой двойственности произведений к самым различным метафорам. Прежде всего это классическое уподобление романа «картине»: Дютийе восхищается тем, что в «Парижских тайнах» «возвышенные философские мысли помещены в раму, украшенную жемчугами и рубинами (то есть восхитительными вымыслами)»[22]. Реймсский хирург Адриен Филипп хочет разграничить в «Парижских тайнах» то, что рождено воображением Эжена Сю, и то, что романист почерпнул из действительности — «безграничного фона», на который он «с неподражаемым мастерством» наносит краски — «то самые приятные, то самые отвратительные»[23]. Бывший депутат граф дю Амель прибегает для описания творческой манеры Сю к религиозному словарю: «С величайшей проницательностью и глубиной вы, сударь, изобразили ужасные изъяны нашего общественного устройства <...> очарование вашего стиля и увлекательность ваших вымыслов подобны меду, которым обмазали вы края чаши, полной горькой правды»[24]. Наконец, Ривай, гордый тем, что разглядел в «Парижских тайнах» «нечто большее, чем завлекательные выдумки, служащие рамой», сравнивает писателя с врачом: «Разнообразные рассуждения, с которыми познакомился я по ходу чтения, убедили меня в том, что <.> вы придаете больше значения филантропии, нежели завлекательной форме, хитроумному расположению фактов и событий, подобно тому как врач ценит целебное действие лекарства выше, нежели те вещества, которые он к нему подмешивает, чтобы скрыть его горечь и помочь больному принять его без отвращения»[25]. Серьезный читатель, таким образом, это тот, кто не позволяет себе пленяться вымыслами. Ривай пишет: «Для начала признаюсь, что ваше сочинение я не прочел, а проглотил, однако не с легкомысленной жадностью, с какой читают увлекательный роман, но с той, с какой серьезный человек знакомится с книгой, содержащей великие истины <.> благородные принципы филантропии, возвышенные уроки». Все эти читатели убеждены, что единственный способ сочетать романическое с серьезным — рисовать правдивую картину общества. По мнению одних, такое изображение уже служит залогом серьезности текста; другие, например Морель Фатио, считают, что хотя в «Парижских тайнах» дано «живое, правдивое и увлекательное изображение нравов эпохи», этого еще недостаточно для того, чтобы превратить роман в «глубокое и добросовестное исследование, способное привлечь внимание государственного чиновника, а главное, дать пищу для размышлений криминалисту»[26].
В начале 1840-х годов, то есть именно в то время, когда в прессе начинается крестовый поход против романов, корреспонденты Сю и Бальзака выказывают себя приверженцами «серьезного» чтения и ценят обоих романистов прежде всего за их философские, политические и социальные размышления. Многие читатели берутся за перо, чтобы выразить свое восхищение высокой нравственностью и моральной пользой сочинений Сю и Бальзака; больше того, роман помогает им осмыслять современность. Корреспонденты двух романистов не принадлежат к числу любителей «неистовой словесности»; в романах они ищут ответы на встающие перед ними моральные и политические вопросы. Подобное серьезное восприятие романа проявилось особенно ярко в тот период, когда «Парижские тайны» печатались с продолжением в газете «Журналь де Деба». Благодаря двойственной направленности своего произведения — то ли пропаганда филантропии, то ли защита обездоленного народа, — а также благодаря тому факту, что роман публиковался на страницах газеты, имевшей репутацию издания исключительно серьезного, Сю смог превратить «Парижские тайны» в настоящий социальный роман.
«Парижские тайны» как социальный роман[27]
Чему посвящены «Парижские тайны»? Скандал, который вызвала публикация романа Сю на страницах газеты «Журналь де Деба» в июне 1842 — октябре 1843 года, объяснялся, в частности, неспособностью публики определить направленность этого сочинения. Первые главы, живописующие кабаки на острове Сите и их завсегдатаев, изображают нравы низов парижского общества в манере Фенимора Купера. Однако очень скоро патетика берет верх над живописностью: описание мансарды Мореля, появившееся на страницах газеты в декабре 1842 года, должно было вызвать у читателя уже не то «пугливое любопытство», о котором в начале романа упоминает сам автор, а сочувствие и негодование. Но этим переходом от живописного к социальному и трогательному дело не ограничилось; в то самое время, когда часть прессы гневно осуждала дурной вкус и непристойность «Парижских тайн», сочинение это постепенно приобретало уникальные черты, каких прежде не имел ни один роман. Первую порцию текста Сю, по-видимому, сочинил в первой половине 1842 года и представил в редакцию «Журналь де Деба» в начале лета; этот текст публиковался в газете с 19 июня по 30 декабря. Читатели ждали продолжения. На месяц публикация приостановилась: за это время Сю явно переменил намерения и решился превратить свой роман в проповедь благотворительности и систематическое обличение несправедливости, царящей в современном обществе.
Роман филантропический, роман социалистический
8 февраля 1843 года «Журналь де Деба» опубликовала главу «Сен-Лазар», действие которой происходит в стенах этой тюрьмы, «специально предназначенной для воровок и проституток»[28]; это дало Эжену Сю повод упомянуть реакцию читателей-филантропов на ту часть романа, которая увидела свет в 1842 году: «Большое число богачей и счастливцев принялись щедро помогать беднякам, о несчастьях которых ранее не знали». «Подобная помощь оказала нам огромную поддержку и воодушевила нас», — прибавляет Сю, явно имея в виду, что поддержка эта помогла ему не обращать внимания на оскорбительные нападки критиков (1, 563). Прежде чем описать визит г-жи д'Арвиль в страшную тюрьму, повествователь считает необходимым воздать должное всем тем женщинам из высшего общества, которые раз в неделю приезжают в тюрьму и проводят по многу часов рядом с заключенными: «Верные своей благородной миссии, они бесстрашно погружаются в эту зловонную грязь, прислушиваются ко всем зараженным скверной порока сердцам, и если малейшее биение совести внушает им хотя бы слабую надежду на выздоровление, они вступают в борьбу и порой спасают от неминуемой погибели больную душу, в которой они не отчаялись» (1, 562—563). Г-жа д'Арвиль должна была приехать в тюрьму вместе с некоей «г-жой Бленваль» — одной из покровительниц юных преступниц; в отсутствие этой дамы г-жу д'Арвиль встречают другие попечительницы, «которых легко было узнать по черным платьям и синим бантам с серебряной бляхой на груди» (1, 564). Повествователь замечает по этому поводу: «Можно себе представить, сколько скрытой доброты, ума, сочувствия и прозорливости требовалось от этих достойных женщин, согласившихся на скромную и неблагодарную роль — надзирать над заключенными» (1, 564).

Читатели Сю по достоинству оценили этот комплимент. 28 февраля 1843 года романист получил пространное письмо от Каролины Анжебер, некогда состоявшей в Обществе покровительства девицам из департамента Сена, отбывшим тюремный срок, выпущенным на свободу и лишенным пристанища; общество это было создано в 1841 году госпожой де Ламартин[29]. Читательница полностью становится на сторону Сю и объявляет, что не принадлежит к числу тех, которые «осуждают "Парижские тайны" как сочинение безнравственное и подозревают автора не только в намерении льстить вкусу публики, но и замыслах куда более черных». Людям, полагающим, что романист не должен «открывать тайны такого рода», — иначе говоря, рассказывать о язвах современного общества, Каролина Анжебер уверенно возражает: «Мы живем в эпоху гласности; хотите вы того или нет, но это факт, с которым следует считаться. Так вот, только гласность и способна исцелить те недуги, которые она сама же и порождает. Поскольку, срывая все покровы, она обнажает пороки, бывающие порою крайне соблазнительными, желательно, чтобы она демонстрировала их со всех сторон, дабы их отвратительность и их губительные последствия стали очевидны для всех»[30]. Таким образом, «Парижские тайны» призваны показать изъяны общественного устройства и распространить несколько «полезных истин»; иначе говоря, роман выполняет задачи разом и филантропические, и реформаторские.
22 марта 1843 года некий Деньё адресует Эжену Сю письмо примерно того же содержания. «Я понимаю, почему за правдивое изображение нравов определенного класса общества вас обвинили в оскорблении нравов», — признается он перед тем, как дать собственный анализ «Парижских тайн»: «Мне стоило немалых усилий объяснить [своему окружению], что вы один могли показать причины нищеты и безнравственности определенного класса общества, поместив эти сведения в рамки увлекательного повествования. Прежде для тех фактов, которые вы излагаете и которые черпаете, к несчастью, непосредственно из действительности, находилось место только в сочинениях серьезных, известных лишь горстке людей. Надеюсь, сударь, что ваш чрезвычайно увлекательный роман будет прочтен многими, что он поможет людям понять причины тех неустройств, от которых мы страждем, и подскажет верные способы предупредить эти бедствия». К письму этот читатель прилагает брошюру об обучении детей из бедных семей, содержание которой, по его утверждению, близко тем доктринам, какие проповедует Эжен Сю[31].
7 июня 1843 года председатель гражданского суда города Мирекур в Вогезах Себастьен-Жозеф Лимуз шлет Эжену Сю письмо в его поддержку, где называет «Парижские тайны» «картиной столичных нравов, которая отличается исключительной правдивостью и производит особенно сильное впечатление благодаря тому, что действующие в романе персонажи разговаривают на языке своих сословий и являются на его страницах вместе с присущими этим сословиям идеями, убеждениями и обыкновениями»[32]. По мнению Лимуза, это постоянное внимание к социальной реальности помогает обличать несовершенство современного общественного порядка и готовить его реформу: «Эта новая, умелая и остроумная манера клеймить пороки, дурные страсти и все те подлые поступки, которые оказывают прискорбное и развращающее действие на жизнь крупных городов, где люди издавна существуют в страшной тесноте, вызывает всеобщий интерес и может способствовать благотворным переменам в устройстве нашего общества». Далее Лимуз убеждает Эжена Сю, что некоторые из критических замечаний по поводу французского правосудия, которые сделаны на страницах «Парижских тайн», несправедливы, и читает ему пространную лекцию по вопросам права. Впоследствии, когда Сю сам стал подчеркивать серьезную «филантропическую» составляющую своего романа, он сослался на это письмо.
8 то же самое время Эжен Сю постоянно вел переписку с редакторами рабочей газеты «Народный улей» — Жюлем Венсаром, Розенфельдом, Абелем Жаке, иначе именуемым Дюкеном, и Эмилем Вареном, — а также с фурьеристом Шарлем Пеллареном, который восторженно отозвался о «Парижских тайнах» в предисловии к своей книге «Шарль Фурье, его жизнь и теория»: «Сочинения, прежде, казалось, не имевшие иной цели кроме развлечения праздных умов, которые Цивилизация плодит по мере своего развития, ныне, нимало не утратив своей способности потрясать чувства, превратились в серьезные наставления и сделались, именно благодаря тому впечатлению, какое они производят, красноречивыми предисловиями, трогательными комментариями к социальной науке. Нужно ли называть то из этих сочинений, которым все нынче зачитываются с величайшей жадностью и в котором пылкий писатель, нарисовав с такой правдивостью ужасающую, отвратительную картину плачевного состояния всех классов общества, без обиняков призвал Власти и богачей встать на защиту Ассоциации!»[33] Пелларен имел в виду последнюю главу шестой части «Парижских тайн», опубликованную 31 марта 1843 года. В ней повествователь призывает правительство создавать «ассоциации капитала и труда», иначе говоря, употреблять состояние тех богачей, которые не умеют разумно его использовать, для лучшей организации труда. Сю снискал одобрение не только фурьеристов из круга газеты «Фаланга», но и сенсимонистов, представитель которых, банкир Арлес-Дюфур, утверждал, что Сю сочинил произведение «не только поучительное и забавное, но еще и социальное и политическое»[34]. Таким образом, читатели из числа рабочих и социалистов воспринимают «Парижские тайны» так же серьезно, как и филантропы вроде Анжебер или Деньё, но выводы делают иные. Те и другие видят в «Парижских тайнах» сочетание романического обрамления и серьезного содержания, но политическую направленность этого содержания оценивают по-разному. Как это объяснить? Чтобы ответить на этот вопрос, следует изучить писательскую стратегию Сю, который начиная с февраля 1843 года совершенно сознательно обыгрывал читательские ожидания разных слоев публики и умело использовал возможности, предоставляемые местом публикации романа — подвалом крупной ежедневной политической газеты.
Между прессой и романом
В самом ли деле «Парижские тайны» — полноценный роман? Вопрос этот может показаться абсурдным, если вспомнить, что речь идет об общепризнанном образце «народного романа», который благодаря живописному арго и колоритным персонажам — отвратительной Сычихе, трогательной Лилии-Марии, великодушному Родольфу и неумолчной госпоже Пипле — покорял многие поколения читателей. Прислушаемся, однако, к голосам тех читателей, которые знакомились с «Парижскими тайнами» по мере их появления в газете; Деньё называет себя «серьезным читателем увлекательных и трогательных фельетонов», которые Сю публикует в «Журналь де Деба», и утверждает, что постиг суть этих «статей». Тот же термин употребляет и Лимуз: он предлагает вниманию Эжена Сю свои размышления об «одной из последних статей, напечатанных в "Журналь де Деба" 3 июня». Оба читателя прекрасно знают, что ведут речь о фрагментах романа, однако это не мешает им называть фельетоны или эпизоды «статьями». Именование это способствует отделению «серьезного» содержания от романического оформления; тот, кто подходит к фельетонам Сю серьезно, обнаруживает в них не что иное, как статьи. Не случайно в августе 1843 года, когда восьмая палата парижского суда исправительной полиции разбирала дело матери, обвиняемой в принуждении своей дочери к проституции, королевский прокурор Жан-Антуан де Монжи в обвинительной речи ссылался на «Парижские тайны»: ведь Эжен Сю, утверждал он, «под прикрытием увлекательной драматической формы тщательно исследует вопросы социальные и пенитенциарные, являющиеся предметом наших трудов и нашего изучения».
Разграничению в романе двух пластов — серьезного и романического — способствовали те изменения, какие произошли в писательской манере Сю начиная с февраля 1843 года. С одной стороны, умножилось число авторских отступлений: словно забыв о вымышленных героях романа, Сю пускается в рассуждения о злободневных социальных вопросах, а романический эпизод служит для этих рассуждений своеобразной иллюстрацией. Именно таким образом устроена глава, на которую намекал Шарль Пелларен и которая заканчивается призывом к союзу, или ассоциации, капитала и труда; в ней описана судьба развращенного и лживого юноши Флорестана, обвиняемого в краже бриллиантов: спасаясь от ареста, он симулирует самоубийство и убегает из отцовского дома по потайной лестнице. Романический эпизод исчерпан — но глава продолжается, и повествователь, именующий себя «мы» — так сказать, его величество автор, — предлагает читателю политическую и социальную трактовку изложенного эпизода: «Полицейские старательно, самым тщательным образом обыскали весь дом, но Флорестана нигде не обнаружили. Пока его отец и полицейский комиссар разговаривали друг с другом, виконт быстро сбежал по лестнице, прошел через будуар и теплицу, а затем по пустынной улице добежал до Елисейских полей.
Зрелище столь низкой развращенности человека, живущего среди роскоши, — зрелище весьма прискорбное.
Мы это знаем.
У богатых классов отсутствуют разумные и прочные устои, однако у них, к несчастью, есть свои беды, свои пороки и свои преступления» (2, 180).
Эжен Сю — ибо именно его голос мы слышим в данном случае — скорбит о «страшном несоответствии, которое существует ныне между положением миллионера Сен-Реми и ремесленника Мореля» (2, 181), то есть между развращенным богачом и добродетельным бедняком, и видит выход из положения в «союзе труда и капитала — союзе честном, разумном и справедливом, который должен обеспечить благосостояние ремесленника, не нанося при этом ущерба имуществу богача <...> и тогда вновь созданные узы доброжелательства и благодарности скрепят этот союз и навсегда сохранят спокойствие и мир в государстве» (2, 181). Отложим на время обсуждение политического смысла этого пожелания. Отметим пока лишь одно: в феврале — марте 1843 года Сю без устали множит число подобных отступлений, так что последние части «Парижских тайн», можно сказать, напичканы социополитическими комментариями. Романист спешит высказаться по всем жгучим вопросам современности. Публикуя в июне целый ряд глав, действие которых происходит в тюрьме Ла Форс, Сю мотивирует этот выбор его актуальностью:
«Подробное описание нижеследующих сцен, возможно, приведет к тому, что нас упрекнут в том, будто мы нарушаем целостность нашего повествования, включая в него эпизодические картины; однако нам кажется, что именно сейчас, когда важные вопросы, связанные с порядками в тюрьмах, вопросы, неотделимые от общественного порядка вообще, вот-вот не то что будут разрешены (наши законодатели, конечно же, воздержатся от этого), но будут по крайней мере широко обсуждаться; повторяю, именно сейчас нам кажется вполне уместным описать внутреннюю жизнь тюрьмы — этого адского вертепа, этого зловещего порождения цивилизации» (2, 328). Сю намекает здесь на обсуждение проекта закона о тюремной реформе, который был представлен в палату депутатов министром Дюшателем в апреле 1843 года (и который депутаты отвергли). Сю, убежденный сторонник одиночного тюремного заключения, своим романом о низах общества вступает в публичную дискуссию, участники которой одинаково боятся и растущего числа преступлений, и чересчур снисходительных порядков в тюрьмах, где, по всеобщему убеждению, создана плодородная почва для заговоров против общества. Повторяя аргументы Токвиля и Моро-Кристофа, Сю подробно описывает тюрьму ради того, чтобы проиллюстрировать и доказать свою заветную идею о благотворности одиночного заключения[35]:
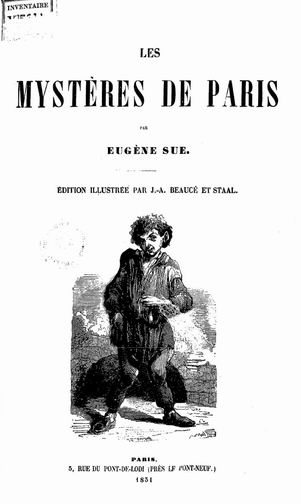
«В нижеследующих сценах мы попытаемся показать чудовищные и неизбежные последствия пребывания арестанта в общих камерах. <...>
Одиночное заключение!..
Мы будем почитать себя счастливыми в том случае, ежели голос наш будет пусть даже не принят во внимание, но хотя бы услышан в хоре тех голосов, гораздо более красноречивых и весомых, которые совершенно справедливо и с похвальной настойчивостью требуют безоговорочно и неукоснительно применять систему одиночного заключения» (2, 331).
Тринадцать глав, следующих за этим предуведомлением, были опубликованы с 1 по 24 июня 1843 года; действие во всех этих главах происходит в тюрьме Ла Форс; автор постоянно вставляет в повествование о судьбе романных персонажей собственные комментарии — размышления о правосудии или о пенитенциарной системе. Именно на один из таких комментариев и откликается в письме от 7 июня председатель мирекурского суда Лимуз. Вот один из примеров взаимодействия повествования и комментария: сравнивая наказание, которое ожидает вора-рецидивиста по прозвищу Острослов, с тем, которое понесет мэтр Булар, судебный исполнитель, присвоивший средства своих клиентов, романист возмущается снисходительностью Уголовного кодекса по отношению к преступлениям «людей из хорошего общества», виновных в «злоупотреблении доверием»: их дела рассматривает суд исправительной полиции, тогда как дела воров отправляются в суд уголовный. В качестве примера Сю приводит два приговора, почерпнутых им из «Судебного бюллетеня» (Bulletin des tribunaux): судебного исполнителя, злоупотребившего доверием клиентов, приговорили к двум месяцам тюрьмы и двадцати пяти франкам штрафа, а несчастного, укравшего жалкую мелочь — «поношенную одежду, старые простыни, дырявые сапоги, две прохудившиеся кастрюли и к тому же две бутылки белой швейцарской водки» (2, 367), — отправили в каторгу на двадцать лет. Таким образом, эпизод из романа служит поводом для размышлений, которым, в свою очередь, служат подтверждением «истинные происшествия», заимствованные из юридической прессы.
Постоянно учащающиеся отступления от романной интриги; введение в сюжет романа эпизодов, имеющих непосредственное отношение к злободневным вопросам, обсуждаемым в обществе; цитирование в фельетонах отрывков из газет; публикация на страницах «Журналь де Деба» читательских реплик, касающихся поставленных в романе проблем, — все это лишает «Парижские тайны» жанровой определенности, превращает их в сложносоставной объект — наполовину роман, наполовину исследование современного мира. Эжен Сю удачно обыгрывает многофункциональность того газетного пространства, в котором появляется его текст: черная линейка, под которой публикуются фельетоны, отделяет политическую часть ежедневной газеты от «подвала», где печатаются не только романические вымыслы, но также литературная и художественная критика, научно-популярные статьи, путевые заметки или серьезные исследования, под которыми стоят имена знаменитых ученых, — все те материалы, которым не находится места в основной части газеты, состоящей, как правило, из коротких заметок. В этот период журналисты активно экспериментируют с газетными формами; в той же функции, что и «подвал», выступает зачастую рубрика «Смесь», где также появляются тексты большого объема (напомним, что первый «роман-фельетон», «Старая дева» Бальзака, печатался с продолжением на страницах газеты «Пресса» именно в рубрике «Смесь»); можно предположить, что цензура была менее строга к текстам, печатаемым в «подвалах» и в «Смеси», чем к собственно политическим газетным статьям[36]. Сю пользуется всеми возможностями, предоставляемыми формой «фельетона» — формой, которую в то время могли принимать и беллетристические произведения, и серьезные статьи, авторы которых выбирают злободневные темы и стремятся объяснить закономерности реальной жизни. В 1830—1840-е годы в «подвалах» печаталось множество текстов неопределенной жанровой природы: «путевые заметки», которые зачастую оказывались не более чем романическими вымыслами; «этюды о нравах» и многочисленные мелкие художественные сочинения «на злобу дня» — описания разнообразных моральных и социальных типов в духе модных «Физиологий»[37].
Легитимистские критики били тревогу в связи с тем, что газетчики якобы интересуются только деньгами и, публикуя романы, нисколько не заботятся о прояснении своей политической позиции; между тем история появления на страницах «Журналь де Деба» «Парижских тайн» свидетельствует об обратном: журналистика оказывает влияние на роман, верхняя часть газетного листа вторгается в нижнюю; романист вводит в вымышленное повествование факты злободневные, почерпнутые из реальной жизни, — одним словом, материалы, относящиеся к сфере «серьезного». Перебивая рассказ о вымышленных героях отступлениями на актуальные темы, пренебрегая границей, отделяющей «подвал» от политической части газетной страницы, Сю то и дело превращается из романиста в публициста; читатели превосходно чувствуют это присутствие в его фельетонах — которые они не случайно предпочитают называть не главами или эпизодами, а «статьями», — не только романического «обрамления», но и серьезного «содержания», и шлют ему в письмах свои реформаторские проекты.
Отношение к социальным вопросам
Вопрос об истинной политической направленности «Парижских тайн» крайне сложен. Политические взгляды Эжена Сю ставили в тупик не одно поколение критиков: с какой стати этот писатель, более известный своими роскошными экипажами и многочисленными любовницами, вдруг сделался ревностным защитником народа? Жан-Луи Бори полагал, что Эжен Сю приобрел вторую ипостась, не утратив первой, — в 1841—1842 годах проникся сочувствием к народным бедствиям, но при этом не отказался от роскошной жизни и стал таким образом «денди, но социалистом»[38]. Однако откуда взялся у Сю жгучий интерес к социальным вопросам? Опираясь на свидетельства его сводного брата Эрнеста Легуве, а также на воспоминания драматурга Феликса Пиа, биографы Сю утверждают, что его «обратил» в социалистическую веру некий рабочий во время обеда после премьеры пьесы Пиа «Два слесаря» в театре «У ворот Сен-Мартен» в мае 1841 года[39]. Анекдот эффектный, но трудно верифицируемый. Не вернее ли предположить, что Сю «обратился» сам, узнав о восторженных отзывах на «Парижские тайны», публиковавшихся начиная с июля 1842 года в фурьеристской прессе? Легуве пишет, что, живо расстроганный статьями, появившимися летом 1842 года в газете «Фаланга», Сю встретился с директором этой газеты Виктором Консидераном и после долгой беседы с ним якобы объявил: «Теперь мне все ясно»[40]. Однако он не мог сразу полностью изменить тон и ход своего романа, поскольку к этому моменту уже доставил в редакцию «Журналь де Деба» тексты, которых должно было хватить до конца 1842 года. Таким образом, плоды свидания с Консидераном могли сказаться лишь на тех «фельетонах», которые «Журналь де Деба» начала печатать с февраля 1843 года. Можно ли в таком случае утверждать, что, когда Сю работал над первой частью романа, в частности описывал чудовищные условия, в каких живет семья рабочего Мореля, — а это происходило, по всей вероятности, в первой половине 1842 года, — он был абсолютно равнодушен к «социальным вопросам»? Для ответа на этот вопрос нам не хватает документов; что же касается «серьезного» прочтения романа-фельетона филантропами или социалистами, то нам неизвестны отклики такого рода, которые были бы написаны раньше февраля 1843 года[41].

С каким политическим течением следует связывать «Парижские тайны»? Следует ли читать его как филантропический роман, исполненный при этом сочувствия к рабочему движению, или же как роман социалистический, в котором идеи социализма несколько смягчены, чтобы не отпугнуть умеренный читательский контингент газеты «Журналь де Деба», и который обязан своими теоретическими и практическими идеями социалистической рабочей прессе?[42] выбор, судя по всему, не стоял; формула Жана-Луи Бори «денди, но социалист» превосходно описывает этого человека, который начиная с 1844 года поселился в деревне и стал деятельным сторонником социалистических идей, но при этом продолжал тратить бешеные деньги на редкие цветы, элегантные сапоги и китайский чай[43]. Убеждения его лучше вообще не обсуждать: Сю просто включил в свой роман все самые популярные социальные вопросы, о которых говорили на рубеже 1840-х годов. «Сторону угнетенных» он недвусмысленно примет лишь позже, в ту пору, когда станет сочинять «Вечного жида» и «Мартена-найденыша»; в это время ни у кого уже не останется сомнений в том, что он — «друг трудящихся»[44].
Разные типы восприятия «Парижских тайн» свидетельствуют о принципиально неоднородном характере самого текста: не случайно одни читатели под влиянием романа начинают помогать бедным и заниматься просвещенной благотворительностью; другие требуют немедленно реформировать систему правосудия и пенитенциарную систему, наконец, третьи, из числа рабочих, толкуют о «реальных переменах к лучшему, на которые могут и должны претендовать трудящиеся классы»[45]. Все читают «Парижские тайны» как сочинение с романическим обрамлением и серьезным содержанием, и каждый находит как в романном повествовании, так и в авторских отступлениях подтверждение для собственных интерпретаций. Некоторые ясно сознают многослойность текста; к числу таких читателей принадлежат шляпник Андре Сев, подозревающий Сю в том, что он пишет о народе исключительно ради привлечения публики, и краснодеревщик Виктор Бекерель, который так описывает разные читательские аудитории и разные виды восприятия романа: «Я прочел ваши "Тайны" с величайшим удовольствием и нашел в них наставление для юношества, урок для наших законодателей и утешение для нас, рабочих: нам отрадно сознавать, что такой известный писатель, как вы, сочувствует нашей нищете, нашим лишениям, бессонным ночам, которые мы проводим в размышлениях о нашем вечном рабстве и нашем ничтожном жаловании, и тревогам, которые терзают нас при мысли о будущности наших жен и детей»[46]. Бекерель благословляет романиста за то, что он, «поставив свое перо на службу рабочему классу, помог затянуться кровоточащей ране на теле общества», и высказывается в пользу рабочих ассоциаций, в которых видит единственное средство борьбы с нищетой и пороками: «Люди должны помогать друг другу, открывая мастерские в мертвый сезон, когда работы не найти». В «Парижских тайнах» Сю не отдает предпочтения ни социализму, ни либеральной филантропии и ни разу не упоминает недавние социальные конфликты, такие как забастовки 1840 года, однако он ставит в романе те «социальные вопросы» (нищета, преступность), о которых говорили все современники[47]. Буржуа-филантропы читают роман как продолжение исследований, проводимых Академией моральных и политических наук; они находят в нем обличение физической и моральной нищеты трудящихся классов, призыв к улучшению системы правосудия, к более строгому надзору за тюрьмами со стороны администрации больших городов. Иное дело — те рабочие, которые пишут письма Эжену Сю: они воспринимают народную нищету как существенный изъян общественного устройства и рассчитывают с помощью «Парижских тайн» привлечь внимание общества к проблеме труда. Рабочие особенно ценят Сю за то, что он не изображает народ как развращенную беспорядочную толпу. Одним словом, все «серьезные» читатели убеждены: «Парижские тайны» — это прежде всего, как пишет Каролина Анжебер, обнажение социальных язв. Дальше пути читателей расходятся: буржуа-филантропы считают, что главное — отыскать способ исцелить эти раны, рабочие — что ради того, чтобы их требования звучали более убедительно, раны эти следует просто-напросто продемонстрировать. Переплетая морализаторские и реформаторские рассуждения с похвалами по адресу честных ремесленников, размышляя в фельетоне ежедневной политической газеты об ассоциации трудящихся и реформе пенитенциарного права, Сю превращает «Парижские тайны» в многозначное и многостороннее произведение, с которым могут солидаризироваться и буржуа-филантропы, страшащиеся общественных беспорядков, и те из рабочих, кто заинтересован в «реальных улучшениях» и не имеет четко выраженных политических пристрастий. Роман Сю вбирает в себя многочисленные составляющие споров 1840-х годов о проблеме труда: избегая политической радикализации (которая была бы неизбежна, если бы он заговорил о забастовках 1840 года), Сю сочиняет роман не политический, но социальный. «Парижские тайны» становятся свидетельством тревожного интереса к «условиям жизни класса самого многочисленного и самого бедного», каким было проникнуто общество 1840-х годов, и отражают различные точки зрения на проблему труда и нищеты, причем делается это в фельетоне большой правительственной газеты — то есть в такой форме, которая позволяет автору уйти от прямых политических высказываний.
Скандал, который вызвала публикация «Парижских тайн», обнажил всю остроту вопроса о соотношении романического вымысла и реальной жизни при Июльской монархии. Роман о низах общества, где картины жизни трудящихся классов перемежаются с пространными размышлениями о социальных реформах, был совершенно по-разному воспринят критиками и читательскими массами: критики в большинстве своем бранили автора за безнравственность и дурной вкус, читатели же находили в романе совсем иное, а именно постановку социальных вопросов. Впрочем, было бы ошибкой считать, что объектом подобного «серьезного» чтения стали только «Парижские тайны», хотя их публикация по праву считается уникальным эпизодом в истории журналистики и издательского дела в эпоху Июльской монархии. Сходным образом реагировала публика и на произведения, выходившие из печати прежде романа Сю. Читатели Бальзака, находившие в его романах точное изображение современного общества, также воспринимали эти романы — в полном соответствии с «подсказками», рассыпанными по бальзаковским предисловиям, — совершенно всерьез, как сочинения, ставящие важные вопросы об индивидуализме и собственности, семье и религии. Читатели, писавшие письма Бальзаку и Сю, видели в их романах наиболее верное средство осмыслить и истолковать современный мир. Такая трактовка вполне отвечала намерениям авторов, выраженным в предисловиях или в самом тексте романов, и решительно противоречила точке зрения критиков, которые по большей части выступали против романов, обличая их лживость, безнравственность и вредоносность. Иначе говоря, безвестные читатели вступали в союз с писателями против критиков, которые негодовали тем сильнее, чем больше сознавали свою беспомощность. Серьезные, вдумчивые читатели утверждали, что романное изображение глубоко правдиво — тезис, который критики в большинстве своем отвергали, опровергали, замалчивали. Дело в том, что отношения этих читателей с текстом и автором носили романтический характер; романтическим мы называем такой тип восприятия, при котором анонимный читатель берет в руки текст, чтобы найти в нем правдивое суждение о самом себе и о мире; так вот, в многолетней истории подобного восприятия случай Сю и Бальзака интересен тем, что большинство читателей склонны искать в вымышленном мире их романов прежде всего изображение реального общества. Сила романов Сю и Бальзака — а равно и всех прочих «романов из жизни», опубликованных в эпоху Июльской монархии, — заключалась в том, что они предлагали читателям способы осмысления социальной реальности, которую терзали «язвы» пауперизма и которая после введения юридического равенства — источника стремительного обогащения одних и столь же стремительного обнищания других — сделалась для большинства французов и француженок непонятной и пугающей.
Перевод и вступительная заметка Веры Мильчиной

[1] © Lyon-Caen J. La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps de Balzac. Paris: Tallandier, 2006. Подробнее об этой книге см.: Мильчина В. А. Персонажи в переписке с автором // Новое лит. обозрение. 2008. № 91. С. 379—385. Письма читателей к Бальзаку хранятся в Библиотеке Французского института (фонд Лованжуля); письма Эжена Сю — в Исторической библиотеке города Парижа и в Орлеанской муниципальной библиотеке. В настоящем переводе указания на эти фонды и шифры конкретных писем опущены.
[2] Chaudes-Aigues J. Ecrivains contemporains. III. M. de Balzac // Revue de Paris. Novembre 1839.
[3] Письмо без даты от некоего Эжена С.
[4] Письмо без даты.
[5] Письмо анонимное и недатированное.
[6] Письмо из Парижа от 23 марта 1843 г., подписанное «Один из читателей Парижских тайн».
[7] Там же.
[8] Письмо читательницы по фамилии Лихтенауэр от 18 октября 1843 г.
[9] Та же ироническая аргументация содержится в предисловии к «Отцу Горио» (1835), где Бальзак сообщает, что насчитал в своем творчестве «38 добродетельных женщин», злодеек же — «всего 20», а затем делится своими творческими планами: «Конечно, автор задумал и еще несколько темных делишек, но еще больше он заготовил поступков высоконравственных».
[10] Письмо из Осера от 6 ноября 1841 г.
[11] Письмо А. Шайи к Эжену Сю от 13 декабря 1846 г.
[12] Письмо из Парижа от 29 марта 1841 г.
[13] Письмо от 11 октября 1839 г.
[14] Gaschon de MoUnes. Simples essays d'histoire littdraire. II. La seconde Famille des Romanciers. I. M. de Balzac (La Comddie humaine)» // Revue des Deux Mondes. 1er novembre 1842.
[15] Письмо из Парижа от 6 сентября 1847 г.
[16] О политических убеждениях Бальзака см.: Guyon B. La pensde politique et sociale de Balzac. P., 1947; AndrdoliM. La politique rationnelle selon Balzac // Annde balzacienne. P., 1980. P. 7—35; AndrdoliM. «Le mdddcin de campagne». Iddologie et narration // Annde balzacienne. P., 1989. P. 199—231.
[17] Об исканиях мыслителей Июльской монархии, мечтавших о разумном политическом устройстве, см. работы Пьера Розанваллона, а также: Riot-Sarcey M. Le Rdel de l'utopie. Essai sur le politique au XIX sidcle. P., 1998.
[18] Письмо от 23 ноября 1846 г.
[19] Письмо от 24 февраля 1833 г.
[20] Письмо от 13 декабря 1846 г.
[21] Письмо из Парижа от 19 февраля 1833 г.
[22] Письмо из Тура от 20 ноября 1843 г.
[23] Письмо от 22 сентября 1843 г.
[24] Письмо из Парижа от 4 января 1844 г.
[25] Письмо из Парижа от 4 сентября 1843 г. Ипполит-Леон-Денизар Риваль, ученик Песталоцци, основал в Париже школу и выпустил немало учебников, в том числе «Практическое и теоретическое пособие по арифметике» (1824), учебник по грамматике и сборники диктантов, которые в течение XIX столетия неоднократно переиздавались. Однако он куда более известен под псевдонимом Алан Кардек; именно под этим именем педагог-масон с середины 1850-х годов стал во Франции одним из главных пропагандистов спиритизма (см.: Caillet A. L. Manuel bibliographique des sciences psychiques ou occultes. P., 1918. T. 3; Edelman N. "Vbyantes, guerisseuses et visionnaires en France, 1785—1914. P., 1995).
[26] Письмо из Парижа от 27 июля 1843 г.
[27] Ги Роза употребляет этот же термин применительно к «Отверженным», однако он подчеркивает, что Гюго подходит к изображению нищеты весьма своеобразно: по мнению Роза, Гюго в «Отверженных» подвергает «реалистическое описание нищеты» жесткой критике и решительно отказывается превращать нищету в «предмет социологического или исторического исследования» (Rosa G. Histoire sociale et le roman de la misere //Hugo V. Les Mis&ables. P., 1995. P. 166, 172). Намерение Эжена Сю, разумеется, было иным: в своем романе он как раз собирался нарисовать обширную реалистическую картину жизни обездоленных трудящихся классов.
[28] Сю Э. Парижские тайны. М., 1980. Т. 1. С. 562 (далее ссылки на это издание даются прямо в тексте).
[29] Об этом благотворительном комитете, одном из ответвлений Общества христианской морали, см.: Duprat C. Usages et pratiques de la philanthropie. Pauvrete, action sociale et lien social a Paris au cours du premier XIX siecle. P., 1997. T. 2. P. 755.
[30] Письмо из Парижа от 28 февраля 1847 г.
[31] Письмо из Монфора-Ламори от 22 марта 1843 г. Брошюра не сохранилась.
[32] Письмо из Мирекура от 7 июня 1843 г.
[33] Цит. по: Galvan J.-P. Les Mysteres de Paris. Eugene Sue et ses lecteurs. P., 1998. T. 1. P. 202—203.
[34] Письмо из Лейпцига от 3 октября 1843 г. В другом месте Арлес-Дюфур упоминает визит, который предыдущей весной нанес Эжену Сю такой видный сенсимонист, как отец Анфантен.
[35] Споры о тюремной реформе шли в течение эпохи Июльской монархии постоянно. Сторонники одиночного заключения, в частности Токвиль, были убеждены, что лишь содержание в одиночных камерах может уберечь преступников от нравственной заразы, которую они непременно подхватывают в общих камерах; Токвиль, долгое время наблюдавший, как работает американская пенитенциарная система, не верил, что тюрьма способна сделать заключенных более нравственными. Ее функция иная — наказывать, принуждать к работе и приучать к послушанию. Токвиль, опубликовавший в 1832 году вместе со своим соавтором Бомоном труд об американской пенитенциарной системе, дважды, в 1840 и 1843 гг., представлял палате депутатов проект тюремной реформы. Таким образом, Сю делает свой роман репликой в дискуссии между сторонниками одиночного заключения, прежде всего Токвилем и Моро-Кристофом, и его противниками-филантропами, в частности Шарлем Лука. Заметим, что Бальзак в «Блеске и нищете куртизанок» (1844) принял сторону противников одиночного заключения. О пенитенциарной системе см.: PerrotM. Introduction aux Ecrits sur le systeme pdnitentiarre en France et a l'etranger de Т^шиле // Tocqueville A. de. (Euvres completes. P., 1984. T. 4. P. 7—44; Petit J.-G. Ces peines obscures. La prison penale en France, 1780—1875. P., 1990. P. 232—236.
[36] Guise R. Le roman-feuilleton et la vulgarisation des idees politiques et sociales sous la monarchie de Juillet // Romantisme et politique (Colloque de l'Ecole normale superieure de Saint-Cloud, 1966). P., 1969. P. 316—328.
[37] О соотношении между вымыслом и документальным письмом в прессе Июльской монархии см.: Thdrenty М.-Е. Mosai'quеs. Etre ecrivain entre presse et roman (1829—1836). P., 2003. Passim. Мари-Эва Теранти называет художественные произведения писателей-журналистов, появлявшиеся в периодике до 1836 г., «романами на злобу дня». Это определение вполне может быть применено и к романам-фельетонам, которые после 1842 г. публикует Эжен Сю.
[38] Bory J.-L. Eugene Sue, le roi du roman populate. P., 1973. Эдуард Танненбаум подвергает сомнению искренность социалистических убеждений Эжена Сю; см.: Tannenbaum E. The beginnings of bleeding-heart liberalism: Eugene Sue's Les Mysteres de Paris et de Saint-Petersbourg // Comparative Studies in History and Society. 1981. № 23. P. 491—507.
[39] LegouvdE. Soixante ans de souvenirs. P., 1886. T. 1. P. 369; PyatF. Souvenirs littdraires. Comment j'ai connu Eugene Sue et George Sand // Revue de Paris et de Saint-Pdtersbourg. 1888. № 5, fevrier. Этот анекдот воспроизведен во многих книгах о Сю; см., в частности: Atkinson N. Eugene Sue et le roman-feuilleton. Nemours, 1929; Bory J.-L. Op. cit.
[40] LegouvdE. Op. cit. T. 1. P. 370.
[41] О гипотезе, согласно которой Сю «учился» у своих читателей, см.: Thiesse A.-M. L'education sociale d'un romancier. Le cas d'Eugene Sue // Actes de la recherche en sciences sociales. 1980. № 32—33. P. 51—63.
[42] Связать Сю с каким-то одним социалистическим течением не представляется возможным. Проект союза труда с дурно используемым капиталом носит, разумеется, отчетливо сенсимонистский характер, однако в рассматриваемый период термины «союз» или «ассоциация» были начертаны на знаменах представителей практически всех рабочих движений: и сенсимонистов с их «ассоциацией производителей», и фурьеристов, и последователей Бюше; о том же шла речь в брошюре Луи Блана «Организация труда» (1840), на тех же основаниях были устроены реально существовавшие кооперативные мастерские и общества братской взаимопомощи (см.: Sewell W. H. Gens de metiers et revolutions. Ix langage du travail de l'Ancien Regime к 1848. P., 1983. Chapitres VIII, IX).
[43] О любви Эжена Сю ко всем этим предметам роскоши свидетельствуют счета поставщиков, сохранившиеся в архиве Орлеанской библиотеки. С другой стороны, почта его доказывает, что он много занимался благотворительностью самого разного рода, например, предоставлял мэрии средства для неимущих (письмо Симона Блана от 11 марта 1847 г.), снабжал бедных крестьян рекомендательными письмами к врачу в городе Божанси (письмо Пельё от 8 ноября 1847 г.), помогал мелкому чиновнику из мэрии, желающему получить образование (письмо Фредерика Гийо от октября 1846 г.).
[44] Письма каменотеса Ленуара (процитированное выше) и сомюрского басонщика C. Маршана от 2 сентября 1847 г.
[45] Письмо из Парижа от 10 декабря 1843 г.
[46] Письмо из Парижа от 21 ноября 1843 г.
[47] Об изображении нищеты и порока см.: ChevalierL. Classes laborieuses, classes dangereuses a Paris pendant la premiere moitie' du XIX siecle. P., 1958 (в этой книге неоднократно идет речь о «Парижских тайнах»).
