Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Философия как оскорбление
История философии легитимирована как часть истории культуры. Культура, в свою очередь, традиционно мыслится как цветущий сад добропорядочности, а точнее даже — как музей, полный вещей, бывших в употреблении у мертвых классиков. В этом музее фигура философа закована в цепи общественной морали. Сильные мира сего никогда прямо не отрицают значения философии. По их представлениям, философы, живущие в культуре, выполняют роль, среднюю между заместителем по воспитательной работе и хранителем моральных ценностей, с одной стороны, и придворным трубадуром, славящим величие царствующей династии, — с другой. Сократ отправляется в напарники ко Христу, и их обоих зачисляют в проповедников нравственности и учителей общеизвестной мудрости. Посланником Христа становится священнослужитель — с окладистой бородой, круглый от непосильного поста, как правило, занимающий теплое или по крайней мере перспективное место в церковной иерархии и уже потому имеющий весьма смутные представления об иных повседневных делах человеческого рода. Посланником Сократа — доцент, давно не менявший пиджака, обдумывающий между лекциями, не попытаться ли ему взять еще полставки, да так, чтобы не начать чаще попадаться на глаза начальству, речь которого обращена к пятерым случайным слушателям. Священник не по нашему профилю, это конкурирующая контора, и бог с ней. А вот к брату-доценту есть серьезный разговор.
Гипотеза или, лучше сказать, аксиома этой статьи состоит в том, что философия возможна исключительно как оскорбление. Философия есть социальный институт Запада, направленный на разрушение обыденных истин или доксы. Следовательно, всякая философия оскорбительна для общественного мнения. Единственное занятие философов — оскорблять своими мыслями обывателя, среднего человека или вождей. Конец философии наступил бы непосредственно в тот момент, когда все мысли философов стали бы приятными для слуха толпы или даже других философов. Когда всех философов заперли бы в специально отстроенные здания, похоронили бы в общественных советах и на кафедрах. К счастью, этот процесс пока не завершен.
Сократ был казнен за оскорбление общественной морали. А кроме того, по всей видимости, за намеки, что он, зная лишь то, что ничего не знает, остается мудрейшим среди людей. Иными словами, Сократ, в форме наводящих вопросов, сообщал согражданам, что они идиоты. Киники прямо выбрали оскорбление общества, сейчас мы бы сказали даже «преступления против общественной нравственности» в качестве стратегии аргументации. Декарт оскорбил тысячелетнюю традицию христианской мысли, заявив, что не нужно изучать ни труды Философа, ни Священное Предание, а достаточно лишь сделать наши идеи ясными и отчетливыми. Спиноза скандализировал христианский мир и иудейские общины своими исследованиями Библии как исторического текста, написанного людьми. Локк оскорблял европейских монархов доказательствами когнитивной невозможности единовластия. Вольтер приводил в ужас Екатерину Великую проектами освобождения крестьян, что, по мнению императрицы, было равнозначно предложению сделать их сиротами. Кант садистски издевался над публикой, сначала потребовав от нее пользоваться своим умом, а затем опубликовав непосильные для массового читателя «Критики». О Ницше, Марксе и Фрейде и говорить нечего. Витгенштейн вызвал скандал, дерзко заявив, что он не читал Аристотеля, а его любимым философом является Шопенгауэр (как и у всех дилетантов). Русские философы оскорбили своим существованием советскую власть (на знаменитых пароходах философы составляли ничтожное меньшинство, однако именно они, а не юристы, врачи или социологи дали название советскому остракизму). Да и есть ли хотя бы один философ, не оскорбивший никого? Как он манифестирует свое существование?
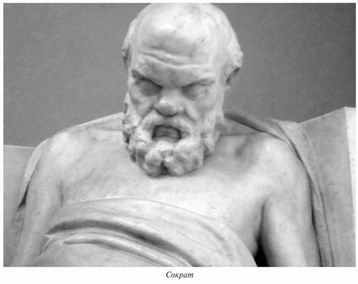
Удивительно, что, учитывая столь тесную генетическую связь двух явлений, философская история оскорблений все еще не написана. Мы возьмемся здесь за разметку самых общих линий.
Античная школа философов-киников непосредственно превратила оскорбление в перформативный аргумент. Их философия, как и философия других школ IV столетия до Рождества Христова, была практической. Киники не заседали на кафедрах, но стремились к счастью. Ответ на вопрос, как возможна счастливая жизнь, данный ими, был бескомпромиссным. Путь к счастью лежал через автаркию, то есть самодостаточность. Счастливый человек ни от чего не зависит. Ни от государства (мечта либерала!), ни от семьи (мечта либертена!), ни от собственности (сами понимаете), ни от общественного мнения, ни от присущих ему предрассудков. Зависимость последнего типа особенно существенна, ибо определяет и наши представления о самом себе, и стратегии рефлексии. Чтобы добиться автаркии в отношении общественных предрассудков, следует опровергать их действием, демонстрировать их абсурдность и условность. Эстетика киников дружна с футуризмом, призывавшим «бросить чемоданы мудрости».
Молодого Эмиля Чорана, который сам оскорбил многих тем, что был радикальным правым, но еще более того — своим умением раздувать человеческую тоску без всякой меры, поразила история киника Диогена. Хозяин богатого дома пригласил Диогена в свое жилище и попросил его не плевать в доме, после чего философ плюнул хозяину дома в лицо. И прокомментировал, что не нашел места хуже. Диоген не только ходил днем по городу с фонарем, заявляя, что ищет человека (в этой милой классической байке многие упускают из вида тот момент, что тем самым Диоген наносил смертельное оскорбление гражданам полиса, лишая их человеческого достоинства и низводя до уровня полузверей). Философия, освобожденная от самоцензуры перед детьми и первокурсниками, дает нам образ красочной античной жизни. Движение к автаркии у Диогена включало среди прочего стремление прилагать как можно меньше усилий. Чтобы не зависеть от кулинарии, он пробовал есть сырое мясо. Диогену принадлежит также изречение, задающее проект либертарного переживания гендера: «Вот если бы и голод можно было утолять, поглаживая себя по животу».
 Актуальны отношения между киниками и отечеством. Говорят, что Александр Македонский предлагал философам отстроить их уничтоженный город заново, но те отказались. Ведь единственной участью города стало бы новое разрушение следующим, очередным Александром. Утонченное оскорбление власти в данном случае состоит, конечно, в демонстрации того, что на философа она не распространяется. Нет ни того, что можно у мудреца отнять, ни того, что можно было бы ему подарить. О том же сообщает известная перебранка Аристиппа и Диогена, в которой, кстати, каждый видел победителем себя. Диоген чистил овощи на улице, то есть занимался делом, совершенно недостойным и оскорбительным для свободного взрослого мужчины — как видно, киники оскорбляли не только других, но и самих себя. Навстречу шел Аристипп в роскошных одеждах, объявивший, что Диогену следовало бы поучиться умению общаться с людьми, и тогда ему не пришлось бы чистить себе овощи. Диоген парировал в том духе, что если бы Аристипп умел довольствоваться малым, то ему не пришлось бы искать милости тиранов. Эту сценку можно считать вообще характерной для античной философии. Греки превратили философию в агональное искусство, претендующее на нечто большее, чем простое остроумие, но требующее от участников навыков, аналогичных тем, что отличают успешных рыночных торговцев. (Агора, напомним, это и рыночная площадь, и место народного собрания, и суд, и место сократической диалектики, откуда следующая сатира: «В Афинах все продается в одном месте: инжир, судебные повестки, виноград, репа, груши, яблоки, свидетели, розы, мушмула, рубец, медовые соты, горох, иски, молоко, мирт, приспособления для выбора судей по жребию, ирисы, бараны, водяные часы, законы, приговоры»[1].) Раз уж философия строится как оскорбление и для мудрости достаточно и необходимо лишь одного из философов, то, встречаясь друг с другом, философы определенно не должны раскланиваться и справляться друг у друга о здоровье и качестве нынешней студенческой молодежи. «Родина моя — бесчестие и бедность, неподвластные никакой удаче», — завершая тему оскорбительных космополитов, процитируем известного киника Кратета, — «а земляк недоступный для зависти Диоген».
Актуальны отношения между киниками и отечеством. Говорят, что Александр Македонский предлагал философам отстроить их уничтоженный город заново, но те отказались. Ведь единственной участью города стало бы новое разрушение следующим, очередным Александром. Утонченное оскорбление власти в данном случае состоит, конечно, в демонстрации того, что на философа она не распространяется. Нет ни того, что можно у мудреца отнять, ни того, что можно было бы ему подарить. О том же сообщает известная перебранка Аристиппа и Диогена, в которой, кстати, каждый видел победителем себя. Диоген чистил овощи на улице, то есть занимался делом, совершенно недостойным и оскорбительным для свободного взрослого мужчины — как видно, киники оскорбляли не только других, но и самих себя. Навстречу шел Аристипп в роскошных одеждах, объявивший, что Диогену следовало бы поучиться умению общаться с людьми, и тогда ему не пришлось бы чистить себе овощи. Диоген парировал в том духе, что если бы Аристипп умел довольствоваться малым, то ему не пришлось бы искать милости тиранов. Эту сценку можно считать вообще характерной для античной философии. Греки превратили философию в агональное искусство, претендующее на нечто большее, чем простое остроумие, но требующее от участников навыков, аналогичных тем, что отличают успешных рыночных торговцев. (Агора, напомним, это и рыночная площадь, и место народного собрания, и суд, и место сократической диалектики, откуда следующая сатира: «В Афинах все продается в одном месте: инжир, судебные повестки, виноград, репа, груши, яблоки, свидетели, розы, мушмула, рубец, медовые соты, горох, иски, молоко, мирт, приспособления для выбора судей по жребию, ирисы, бараны, водяные часы, законы, приговоры»[1].) Раз уж философия строится как оскорбление и для мудрости достаточно и необходимо лишь одного из философов, то, встречаясь друг с другом, философы определенно не должны раскланиваться и справляться друг у друга о здоровье и качестве нынешней студенческой молодежи. «Родина моя — бесчестие и бедность, неподвластные никакой удаче», — завершая тему оскорбительных космополитов, процитируем известного киника Кратета, — «а земляк недоступный для зависти Диоген».
Знаменитая киническая пара, Кратет и Гиппархия, дают удачный пример диалектики оскорбления. С одной стороны, оскорбительным было уже признание Гиппархии равной Кратету и во всем ему подобной. Здесь норма и непристойность за последние столетия, к счастью, поменялись местами, о чем свидетельствуют хотя бы постоянные жалобы философских факультетов мира на недостаток diversity и засилье мертвых белых мужчин в программе. С другой стороны, равноправие Гиппархии означало, что она, как и Кратет, ходит в рубище, побирается вместе с ним на пирах, а кроме того публично занимается со своим супругом сексом на городских улицах. Так оскорбление сняло различия между мужчиной и женщиной, непосредственно внутри самого оскорбления были упразднены и патриархальные предрассудки. Киники учат нас, что если непристойность выполнена на высоком профессиональном уровне, то она оттягивает все внимание на себя и позволяет подсовывать растерявшемуся обществу прогрессивные идеи. В русской традиции чем-то подобным занимался философ Ленин, хотя принципиальное отличие его от киников заключалось в том, что они, как и современные художники, не прибегали к насилию.
Киническая сторона философии, то есть использование мышления для непосредственного оскорбления общественного устройства, в том числе в формах, которые можно было бы назвать античным перформансом по аналогии с античным театром, постепенно сходит на нет. Но это только часть истории.
 Еще одну разновидность философского оскорбления и философии как оскорбления мы находим в известных пассажах первой книги «Метафизики» Аристотеля. Здесь перечисляются заблуждения всех предыдущих философов, причем Аристотель не находит ни одного философа, как из числа древних, так и из числа непосредственных учителей и предшественников, которые бы не заблуждались. Ведь если бы истинная философия была создана до Аристотеля, то его работа как философа была бы излишней. И, соответственно, напротив, после Аристотеля всякая философия избыточна. Назовем это функцией установления: каждый философ, претендующий на мысль, должен объявить все предыдущие и будущие попытки мыслить неудачными. Так история мировой философии разворачивается как всеобщая традиция посмертных оскорблений, где всякий следующий шаг немыслим без полного уничтожения предыдущего наследия. Именно поэтому тот же Аристотель — философ, но не историк философии, а Диоген Лаэртский, к примеру, — наоборот. Аристотель не перечисляет мнения и не обсуждает их, его задача — расчистить площадку для собственного мышления, вырвать сорняки, в которых мог бы запутаться идущий по полю рефлексии ученик. Впрочем, уже Гегель понимал, что и ученики по-настоящему не нужны. В истинной философии содержится начало и завершение мира. Юношам Гегель советовал идти заниматься химией, где в отличие от философии после его смерти еще останутся нерешенные задачи.
Еще одну разновидность философского оскорбления и философии как оскорбления мы находим в известных пассажах первой книги «Метафизики» Аристотеля. Здесь перечисляются заблуждения всех предыдущих философов, причем Аристотель не находит ни одного философа, как из числа древних, так и из числа непосредственных учителей и предшественников, которые бы не заблуждались. Ведь если бы истинная философия была создана до Аристотеля, то его работа как философа была бы излишней. И, соответственно, напротив, после Аристотеля всякая философия избыточна. Назовем это функцией установления: каждый философ, претендующий на мысль, должен объявить все предыдущие и будущие попытки мыслить неудачными. Так история мировой философии разворачивается как всеобщая традиция посмертных оскорблений, где всякий следующий шаг немыслим без полного уничтожения предыдущего наследия. Именно поэтому тот же Аристотель — философ, но не историк философии, а Диоген Лаэртский, к примеру, — наоборот. Аристотель не перечисляет мнения и не обсуждает их, его задача — расчистить площадку для собственного мышления, вырвать сорняки, в которых мог бы запутаться идущий по полю рефлексии ученик. Впрочем, уже Гегель понимал, что и ученики по-настоящему не нужны. В истинной философии содержится начало и завершение мира. Юношам Гегель советовал идти заниматься химией, где в отличие от философии после его смерти еще останутся нерешенные задачи.
Заслуженно или нет, но философ часто понимается как существо нечувствительное к бытовым выпадам. Философа нельзя оскорбить, назвав его кривоногим, низкорослым, имеющим слишком много перстней, самовлюбленным или нищим. Последнее обстоятельство вообще легко может быть представлено как результат небрежного экзистенциального выбора или деятельно, но непринужденно, опровергнуто. Первый сценарий представлен, например, киевским философом Александром Ивашиной, который своей жизнью подтверждает собственные слова, что чины, деньги, карьера и научные степени имеют смысл только при условии, что мы забываем о смерти как неизбежном уравнителе (или если мы христиане)[2]. Вторая аргументация в пользу философской нищеты представлена в легенде о Фалесе, скупившем по дешевке в неурожайный год все городские маслодельни и сказочно разбогатевшем в следующем — урожайном, не отрываясь от созерцания фюзиса. В любом случае, деньги — ничтожная вещь, чтобы ради них тратить время, отпущенное на поиски мудрости. История Аристиппа, потребовавшего у тирана Дионисия денег, получившего в ответ вопрос: «Не ты ли, Аристипп, говорил мне, что мудрецы не нуждаются в деньгах?», ответившего: «Дай же мне денег, и я тотчас объясню тебе природу этого софизма» и, получив деньги, подтвердившего, что не нуждается в них, так как они у него уже есть, — тоже об этом. Даже обвинение в глупости не может быть оскорбительным для философа, ведь различение между умом и глупостью делается обыкновенно в рамках доксы случайными неискушенными людьми. Для иных и Сократ был глупцом, и, напротив, тиран третьесортного полиса — умнейшим из смертных.
 Принимая во внимание все эти соображения, философ, желающий оскорбить другого философа, применяет хитроумную тактику. Философу следует утверждать, что другой философ не является настоящим философом, потому что он мыслит иррационально, и следовательно, его философский проект не является интеллигибельным. Коротко, для того чтобы оскорбить философа, ему нужно отказать в мышлении, удовлетворяющем парменидовскому принципу тождества бытию. Тот, чья мысль лишь скользит по видимостям, не является философом. Собственно, именно это сделал Деррида в отношении всей западной философии, назвав свой проект деконструкцией и, добавим мы, конечно, нанеся тем самым невероятное оскорбление.
Принимая во внимание все эти соображения, философ, желающий оскорбить другого философа, применяет хитроумную тактику. Философу следует утверждать, что другой философ не является настоящим философом, потому что он мыслит иррационально, и следовательно, его философский проект не является интеллигибельным. Коротко, для того чтобы оскорбить философа, ему нужно отказать в мышлении, удовлетворяющем парменидовскому принципу тождества бытию. Тот, чья мысль лишь скользит по видимостям, не является философом. Собственно, именно это сделал Деррида в отношении всей западной философии, назвав свой проект деконструкцией и, добавим мы, конечно, нанеся тем самым невероятное оскорбление.
В Средневековье мышление христианских философов было направлено на сближение с разумом Единого Трансцендентного Мыслителя. Едва ли не единственным оригинальным продуктом эпохи является доктрина апофатического богословия Псевдо-Дионисия, утверждавшая принципиальную неспособность мышления схватывать Бога, и тем самым в нашей логике представляла из себя одновременно массовое философское оскорбление и самодонос.
Традиционной фигурой для оскорблений в новой философии является Гегель, что отчасти связано просто с его популярностью, а кроме того, с его политической позицией, стилем письма и крайне развитым самомнением (напомним, сначала Гегель оскорбил всех, по традиции заявив, что философия кончилась на нем). Шопенгауэр, славившийся своим прекрасным стилем, так характеризует систему философии Гегеля:
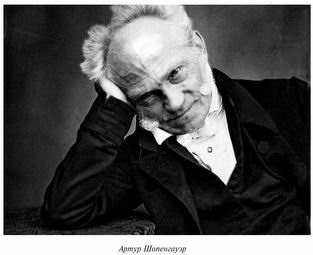
В целом гегелевская философия состоит на три четверти из чистой бессмыслицы, а на одну четверть из продажных идей. Нет лучшего средства для мистификации людей, как выложить перед ними нечто такое, что невозможно понять. Тогда они, особенно немцы, по природе своей доверчивые, тотчас же начинают думать, что все дело в их интеллекте, которому они вообще не очень-то доверяют; чтобы спасти свою репутацию, они скрывают свое непонимание, а лучшим средством для этого служит похвала непонятной мудрости, авторитет которой от этого все больше растет. И требуется огромная смелость и доверие к самому себе, к своему рассудку, чтобы назвать все это бессмысленным шарлатанством.
В гегелевской философии явственно заметно намерение добиться милости монархов сервильностью и ортодоксией. Ясность цели пикантно контрастирует с неясностью изложения, и, как клоун из яйца, вылупливается в конце толстого тома, полного напыщенной галиматьи и бессмыслицы, благодарная салонная философия, которой учат уже в начальной школе, а именно — бог-отец, бог-сын и святой дух, правильность евангелического вероисповедания, ложность католического[3].
В «Сумерках идолов» Фридрих Ницше обрушивается на Шопенгауэра:
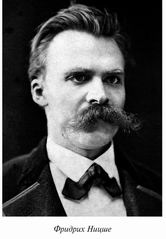 Шопенгауэр… является для психолога случаем первого ранга: именно как злобно-гениальная попытка вывести в бой в пользу общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал, одно за другим, искусство, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании — величайшая психологическая фабрикация фальшивых монет, какая только есть в истории, за исключением христианства.
Шопенгауэр… является для психолога случаем первого ранга: именно как злобно-гениальная попытка вывести в бой в пользу общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал, одно за другим, искусство, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании — величайшая психологическая фабрикация фальшивых монет, какая только есть в истории, за исключением христианства.
Бертран Рассел, сражавшийся в молодости против британских гегельянцев (то есть некоторых ремесленников, обслуги для последнего и уже скончавшегося философа), пронес теплые чувства к Гегелю через всю жизнь. В статье «Философия и политика» он, в частности, пишет:
Философия Гегеля настолько странная, что никто не мог бы предположить, что разумные люди в состоянии принять ее, однако такие находились. Гегель писал настолько запутанно, что читатели невольно находили это глубоким. Если изложить Гегеля ясно, то абсурдность его взглядов становится очевидной[4].
Самому Расселу не раз доставалось от Витгенштейна. Известна история экзаменов, устроенных Расселом и Джорджем Муром для Витгенштейна — на получение звание профессора Кембриджа. Витгенштейн оживленно рассказывал им о своих идеях, а потом встал, похлопал обоих по плечу и со словами: «Да все равно вы никогда этого не поймете» удалился. Витгенштейн также в свойственной ему манере предлагал разделить все книги Рассела на две части. Те, что посвящены математической логике, должны быть в красных обложках, и их должны читать все студенты-философы. Остальные, касающиеся этики и политики, следует снабдить синими обложками и запретить их читать кому бы то ни было.
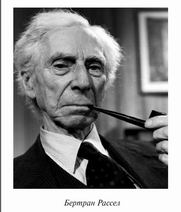 Витгенштейна, в свою очередь, осаживал Карл Поппер, о чем рассказано в известной книге «Кочерга Витгенштейна»: на требование Витгенштейна привести пример морального императива Поппер ответил фразой: «Не угрожать приглашенным докладчикам кочергой»[5].
Витгенштейна, в свою очередь, осаживал Карл Поппер, о чем рассказано в известной книге «Кочерга Витгенштейна»: на требование Витгенштейна привести пример морального императива Поппер ответил фразой: «Не угрожать приглашенным докладчикам кочергой»[5].
Кажется, взаимные оскорбления закольцовываются, так что при желании можно найти точку, где они идут на второй круг. Известный скандалист Ницше, не слишком замеченный профессиональными философами при своей жизни, но зато потом наделавший шума то ли как инициатор комиксов о Супермене, то ли как пророк нацизма (равно правдоподобные истории), не гнушался нападать даже на Сократа. Начиная с XIX века к лейтмотиву философского оскорбления примешивается мотив классовой ненависти и/или обвинения в неясности, завуалированной бессмыслицы. Отныне философы обвиняют друг друга в том, что они не мыслят, поскольку являются носителями идеологии как ложного сознания, некритически восприняли господствующий научный дискурс или же, напротив, являются метафизиками-антисциенистами.
Риторика обличения так называемых буржуазных философов, почерпнутая советскими философами у Маркса и Энгельса, была высушена в гербарии марксизма-ленинизма и довольно быстро превратилась в оскорбление самого оскорбления. Не случайно Маркс в конце жизни гневно протестовал против зарождающегося марксизма. Большая живость суждений в левом лагере характерна, например, для Ноама Хомского, который так аттестовал французских философов:
 Французская интеллектуальная жизнь, на мой взгляд, превратилась в нечто дешевое и продажное благодаря системе «звезд». Это похоже на Голливуд, и в результате они мечутся от сталинизма к экзистенциализму и от Лакана к Дерриде, причем некоторые из их идей чудовищны (сталинизм), а другие просто инфантильны и смешны (Лакан и Деррида)[6].
Французская интеллектуальная жизнь, на мой взгляд, превратилась в нечто дешевое и продажное благодаря системе «звезд». Это похоже на Голливуд, и в результате они мечутся от сталинизма к экзистенциализму и от Лакана к Дерриде, причем некоторые из их идей чудовищны (сталинизм), а другие просто инфантильны и смешны (Лакан и Деррида)[6].
Однако нет единства и среди политических союзников, так что Хомски зачисляет в пустословы и Славоя Жижека, а тот, отстаивая свое право на философию, отвечает Хомски той же любезностью[7].
Выдающимся примером оскорбительной атаки на метафизика Хайдеггера является статья Рудольфа Карнапа «Преодоление метафизики логическим анализом языка», где утверждается, что тексты Хайдеггера (Карнап издевательски предлагает рассмотреть фразу «Ничто ничтожит») являются строго бессмысленными[8].
Существует и еще одна связь между аналитической философией и оскорблениями. Для того чтобы проследить ее, нам придется сначала вернуться к Античности. Как и Диоген Киник, стоики искали ответ на вопрос, как жить счастливой жизнью. Вместо автаркии они предлагали своим последователям атараксию, состояние спокойного духа в мирской суете. В отличие от других эллинистических школ стоики не искали спасения от мира в уединении, но, напротив, связывали счастье не только с внутренним покоем, но и с выполнением долга. В «Нравственных письмах к Луцилию» Сенека прямо предостерегает своих последователей от кинического пути:

Избегай появляться неприбранным, с нестриженой головой и запущенной бородой, выставлять напоказ ненависть к серебру, стелить постель на голой земле, — словом, всего, что делается ради извращенного удовлетворения собственного тщеславия. Ведь само имя философии вызывает достаточно ненависти, даже если приверженцы ее ведут себя скромно; что же будет, если мы начнем жить наперекор людским обычаям? Пусть изнутри мы будем иными во всем — снаружи мы не должны отличаться от людей[9].
То есть: философия и без того оскорбляет людей, философ и без того оскорбительно другой внутри, нет нужды в перформативных аргументах. Сенека предлагает философам маскироваться под людей, но все же лишь до некоторой степени. Ведь, например, в отличие от людей философам не полагается обращать внимание на обычные оскорбления. Эпиктет рассуждает о том, что если тот, кто старается нанести нам оскорбление, говорит правду, то мы должны поблагодарить его за критику и учесть ее, чтобы стать лучше. Если же оскорбляющий нас лжет, то нет причин обращать внимание на слова лжеца. Так бытовое оскорбление становится предметом философского рассуждения, направленного на разграничение мира обывателей и мудрецов. Мудреца невозможно оскорбить, а тот, кто чувствует себя оскорбленным, объявляется стоиками буквально сумасшедшим, то есть теряющим свою разумную природу.
Интерес к практическому стоицизму, очищенному от историко-философских излишеств вроде веры в огненную разумную Вселенную, растущий сейчас в мире, связан с именем американского философа Уильяма Ирвина. Он популяризировал «Новейшую Стою», приводящую в ужас специалистов по Античности[10]. Интересно, что его следующая книга, вышедшая в 2013 году, была непосредственно посвящена оскорблению как повседневной психологической и этической проблеме[11]. Ирвин идет дальше в своем расщеплении единства античной традиции и заявляет, что вы, в сущности, можете даже не быть стоиками, однако чтение их текстов может помочь вам меньше страдать по поводу троллей и грубиянов, окружающих нас на каждом шагу.
Ирвин получил степень магистра философии в Калифорнийском университете (UCLA) и, конечно, воспитан в аналитической традиции мысли. Последняя со времен Витгенштейна оставляет личные этические вопросы, и уж тем более такие почти неприличные темы, как смысл жизни и счастье, за бортом корабля научного знания. Для Ирвина это означало, что будучи well trained в философской традиции Запада, он, переживая кризис середины жизни, попробовал было примкнуть к славной традиции буддизма, однако нашел его недостаточно рациональным. На Западе обнаружились стоики, следы которых были хорошо спрятаны в двухтысячелетней христианской традиции. Стоики отвечали на вопрос о счастливой жизни до Христа, а затем их идеи были поглощены и размыты патристикой.
Обсуждая оскорбления, Ирвин возвращается к стандартным сюжетам аналитической философии, в частности к философии обыденного языка, главным представителем которой был Джон Остин. В своей книге «Как делать вещи при помощи слов» Остин обращает внимание на то, что слова часто служат не только для выражения мыслей или передачи информации. Помимо смысла предложения языка обладают иллокутивной силой, то есть некоторой окраской, предполагающей ту или иную реакцию реципиентов. При помощи слов можно отдавать приказы, именовать вещи, например, давать имена кораблям, умолять или просить, а также слова пригодны для оскорбления. При каких обстоятельствах предложение языка становится оскорбительным?
В аналитической традиции существует по меньшей мере одна монография, специально посвященная прагматике оскорбления. Джером Нои в своей работе Sticks and Stones. A Philosophy of Insult (название стоило бы переводить вроде «Говори что хочешь. Философия оскорбления») анализирует феномен пейоративного языка в культуре, развивая идеи Витгенштейна и Остина и делая особый акцент на теоретических проблемах философии права[12]. Здесь предельно безобидная философия, которая делается абсолютно приличными людьми, возвращается к своим диким корням, объявляя их лишь предметом для внешнего исследования.
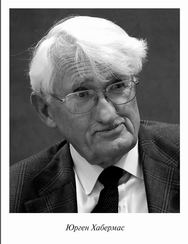 К сожалению, академическая российская философия бедна оскорблениями, выходящими за пределы бытовых склок. Нынешние академические философы не фраппируют публику. Функция «философского установления», полученная нами в наследство от Аристотеля, вывернута наизнанку, ибо во введениях к диссертационным исследованиям принято не опровергать поколения предшественников, но, напротив, воздавать хвалу глубокой разработке ими шахт мысли, куда шагнул робкий соискатель. Взаимные оскорбления, сформулированные отечественными философами, касаются не системного и классического обвинения в неинтеллигибельности, но в основном — неправильно выполненных переводов иноязычных текстов. Исключения находят свое место на маргиналиях академии. Так, философ Эдуард Надточий однажды назвал автора этих строк «философом-гандоном» с таким обоснованием: «Ясно без всяких дополнительных объяснений, что Леви и Глюксман — философы-гандоны. Что значит быть философом-гандоном? Это значит надевать себя на любую зарождающуюся попытку подумать о чем-либо “опасном” с целью “недопущения” в “благих целях”. Таким философом является с некоторых пор, к примеру, Хабермас»[13]. Надежда Толоконникова недавно опубликовала в лондонском издательстве Verso свою тюремную переписку со Славоем Жижеком[14], встав тем самым в один ряд с самым популярным философом Европы и, вероятно, продолжив славную киническую традицию. Если вас будут спрашивать, кто делает философию в России, вы знаете ответ.
К сожалению, академическая российская философия бедна оскорблениями, выходящими за пределы бытовых склок. Нынешние академические философы не фраппируют публику. Функция «философского установления», полученная нами в наследство от Аристотеля, вывернута наизнанку, ибо во введениях к диссертационным исследованиям принято не опровергать поколения предшественников, но, напротив, воздавать хвалу глубокой разработке ими шахт мысли, куда шагнул робкий соискатель. Взаимные оскорбления, сформулированные отечественными философами, касаются не системного и классического обвинения в неинтеллигибельности, но в основном — неправильно выполненных переводов иноязычных текстов. Исключения находят свое место на маргиналиях академии. Так, философ Эдуард Надточий однажды назвал автора этих строк «философом-гандоном» с таким обоснованием: «Ясно без всяких дополнительных объяснений, что Леви и Глюксман — философы-гандоны. Что значит быть философом-гандоном? Это значит надевать себя на любую зарождающуюся попытку подумать о чем-либо “опасном” с целью “недопущения” в “благих целях”. Таким философом является с некоторых пор, к примеру, Хабермас»[13]. Надежда Толоконникова недавно опубликовала в лондонском издательстве Verso свою тюремную переписку со Славоем Жижеком[14], встав тем самым в один ряд с самым популярным философом Европы и, вероятно, продолжив славную киническую традицию. Если вас будут спрашивать, кто делает философию в России, вы знаете ответ.
[1] Цит. по: Стил К. Голодный город. М.: Стрелка Пресс, 2014.
[2] Ивашина А. Культуролог — это «Антихристианин» Ницше, но в современном варианте // Искусство Украины. http://artukraine.com.ua/a/aleksandr-ivashina-kulturolog-eto-antihristia...
[3] Цит. по: Гулыга А. В. Гегель. М., 2008. С. 148.
[4] Russell B. Unpopular Essays. Routledge, 2009. P. 19.
[5] Эдмондс Д., Айдиноу Д. Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами. М.: НЛО, 2004.
[6] Chomsky N. Language and Politics. Ed. by C. P. Otero, 2004. P. 310.
[7] Здесь также стоит упомянуть о знаменитом «разоблачении» французской философии, предпринятой в работе Жана Брикмона и Алена Сокала «Интеллектуальные уловки».
[8] Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1993. № 6.
[9] Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. Письмо V.
[10] Irvine William B. Guide to the Good Life. Oxford University Press, 2008.
[11] Irvine William B. A Slap in the Face. Oxford University Press, 2013.
[12] Neu J. Sticks and Stones. A Philosophy of Insult. Oxford University Press, 2009.
[14] Tolokonnikova N., Zizek S. Comradely Greetings: The Prison Letters of Nadya and Slavoj. Verso, 2014.
