Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Из дневников 1930 года
Когда в начале 1990-х годов начали публиковаться дневники Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), для большинства литературоведов и читателей полной неожиданностью оказался сам факт, что на протяжении своей долгой жизни — в предреволюционные годы, во время Первой мировой войны и во время революции, в голодные двадцатые, в невыносимые тридцатые, в военные сороковые и до самой смерти, — Пришвин втайне вел ежедневный дневник, обнявший в целом почти всю первую половину двадцатого столетия (1905–1954)[1]. Еще более поразило всех содержание этой летописи эпохи, которая разрушила сложившийся в советские годы миф о Пришвине как благополучном «певце природы», авторе фенологических заметок, детских и охотничьих рассказов. Сам писатель никому не показывал свои записи, берег их как зеницу ока. Перефразируя печально известное «десять лет без права переписки», он говорил: «За каждую строчку моего дневника — десять лет расстрела». И еще: «Мои тетрадки — это мое оправдание»[2].
Личность Пришвина и уникальность его отношения к миру — едва ли не самое главное в дневнике; автор не столько описывает происходящее или рассуждает о нем, сколько переживает события изнутри, а читатель, к которому он обращается, — не отвлеченный, абстрактный человек, но друг, которому он может доверять. Пришвину удалось остаться самим собой и в годы революционной юности, и в царской тюрьме, и во время учебы в Германии, и в Петербурге, где он посещал собрания Религиозно-философского общества, и после октябрьского переворота. Ему удалось сохранить мягкий провинциальный елецкий говор: самой своей жизнью и творчеством он синтезирует народное, отчасти фольклорное сознание, простую жизнь российского обывателя с высокой книжной культурой.
Дневник Пришвина — не только и не столько рассуждения и идеи, но и повседневная жизнь конкретных людей, известных и совсем неизвестных, людей, пытающихся, каждый по-своему, выжить, — их на этих страницах десятки и десятки, и кажется, что сама жизнь здесь обрела голос, и этот голос не громкий, тон не пафосный. Пришвин не страшится банальностей, общих мест, не заботится об оригинальности размышлений, выводов или суждений — он «поэтически описывает» жизнь, не обходя вниманием, кажется, ни единого темного уголка, и в то же время не разрушая остро переживаемой им связи между событиями в природе, в истории и в его собственной жизни.
«Записывать документы жизни, и это будет поэзия. Но где эти цельные люди, дети природы? Нет их, и смешно теперь устраивать пролеткульт по Руссо. На простоте далеко не уедешь теперь. Путь к наивному реализму, к простоте (к «жизни») лежит через добро мировой культуры, и только редкий человек не сломает себе шею на этом пути… Я сам считаю себя наивным реалистом, и верю в подлинность своих документов, но разберите хорошенько, и вы увидите, что достижение этих документов предполагает сложнейшую личную жизнь» — писал Пришвин в своем дневнике 7 апреля 1928 года. Здесь обозначена, может быть, основная интуиция писателя: соединение здоровой органической жизни и тончайшей рефлексии. Оказывается, такая жизнь заключает в себе огромный потенциал: это жизнь всерьез, «без дураков», в ней нет идеологического догматизма, нет экстремизма, но нет и асоциальности, она реально демонстрирует возможный — иной — образ поведения и мышления. В ней есть ошибки и находки, взлеты и падения; в ней естественно сочетаются охота, фотография, отношения с близкими и друзьями, — все становится образом поведения, необходимым писателю, чтобы работать.
Так или иначе, писателя не пугает «бездна бытия», он не только изучает народную жизнь, но и живет ею. В единстве писательского и человеческого переживания находит Пришвин оправдание для своего дела: «не имею намерение просто обмануть рабочего человека сказкой во время досуга, а оживляю этой бумажной затеей и самую жизнь».
Пришвин всем своим существом — и купеческим происхождением, и европейским образованием, и отнюдь не марксистским мировоззрением, и стилем мышления, не говоря уже о его образе жизни, круге общения и даже манере одеваться, — просто выламывался из советской действительности, был ей абсолютно чужд. В то же время идеи и иллюзии социализма, лично пережитые им в юности и тогда же отвергнутые, были слишком ему хорошо знакомы, так же, как и мотивы, по которым человек становился рядовым коммунистом. Это в принципе ничего не меняло в его суждениях о самой доктрине и практической деятельности ее адептов, но не позволяло ему огульно осуждать новый строй. В его понимании все, что произошло с Россией, было гораздо сложнее, трагичнее и…органичнее. По крайней мере, он не устает размышлять и разбираться в происходящем вокруг.
Он ведет собственное расследование, идет своим, особым путем, и уже этим самым обрекает себя на одиночество и непонимание. До сих пор его упрекают то в конформизме, то в хитрости и скрытом антисоветизме, а он в течение своей долгой творческой жизни оставался просто русским писателем, — удачливым или неудачливым, приспосабливающимся к жизни, но никогда не совершающим подлости, пораженным скорее отчаянием, чем страхом, но, несмотря ни на что, изо дня в день продолжавшим вести свой дневник, оставаясь в нем до конца открытым и искренним. И эта открытость и искренность — не черты характера, а его «творческое поведение», его путь в искусстве и способ существования (тоже, надо заметить, мало кому понятный).
И даже в труднейшем 1930 году — записи этого года мы предлагаем сейчас вниманию читателей «ОЗ» — он пытается овладеть ситуацией, не сломаться и самому строить свое «творческое поведение»: «Игра двумя лицами (маскировка) ны не стала почти для всех обязательной. Я же хочу прожить с одним лицом, открывая и прикрывая его, сообразуясь с обстоятельствами». Действительно, в писательской среде Пришвин всегда выглядит если не вовсе странным, то довольно необычным человеком, который ведет себя самобытно, не так как принято. Дело не только в том, что он появляется в редакциях в сапогах и с рукописями в ягдташе, — главное, что в нем все чувствуют человека свободного и не идеологизированного, не вписывающегося в противостояние «за или против», что вызывает в те времена, как, впрочем, и позже, по меньшей мере недоумение.
Стратегия выживания писателей в годы террора, конформизм и его пределы — одна из проблем, которая в настоящее время обсуждается постоянно и очень широко. Как мог художник сохранить себя, писать, публиковаться и даже считаться актуальным в годы тотальной идеологизации культуры? Каждый писатель был вынужден так или иначе решать для себя эту проблему, и Пришвин, конечно, не исключение. «Мы, старые писатели, не можем сразу справиться с этой огромной задачей: приспособиться и остаться самим собой» — писал он в дневнике 1930 года. Надо сказать, что опыт писания «в стол» складывается у писателя очень рано: начиная с 1918 года, в его архиве постепенно формируется целый пласт не опубликованных художественных произведений (не говоря уже о дневнике). Но в то же время Пришвин стремится присутствовать в официальной культуре, не изменяя себе; по его мнению, он может писать о том, что закажут, но не может писать так, как закажут. И для этого есть основания.
Литературный язык Пришвина находится в тесном взаимодействии с живым народным разговорным языком, который менее всего связан с новым складывающимся советским языком. Даже если считать, что в дневнике писатель пишет свободно, а в художественных произведениях с оглядкой, то оглядывается он — по крайней мере, в эти годы — не на цензуру и не на идеологию. Он ищет свой язык — не эзопов язык иносказаний или зашифрованных смыслов, а язык, на котором можно сказать все, но… «имеющим уши». Это язык не идеологизированного человека — по-другому Пришвин не может, не умеет ни мыслить, ни писать.
Может быть, в этом и состоит писательская стратегия Пришвина — так же как тайна его личности и весь его талант — в языке, который оказывается неуловимым для цензуры, потому что существует на другой территории, за пределами «за или против». «Как я живу? Живу, укрываясь делом, которое понять и разобрать до сих пор не могли; пожалуй, я даже и не укрывался. Я просто жил за счет своего таланта, меня талант выносил»[3]. Язык Пришвина не вписывается в исторический контекст, даже если он стремится к этому. Или, вернее, торчит из этого контекста со всех сторон — прорастая новыми смыслами, рождая, как сам он впоследствии скажет, «небывалую» форму. Иногда в одной записи разговорная лексика уживается с лексикой книжной, а то и с революционным клише, но это совершенно не смущает автора: «Итак, если тебе получшеет, то знай, что, значит кому-то похужело, вроде как бы отобрали корову у кого-нибудь, чтобы ты пил молоко. Ты можешь радоваться бытию при условии забвения ближнего, ты можешь, впрочем, жить идеей, т. е. самозабвенным участием в творчестве будущего нового человека». Главное качество мысли Пришвина даже не в том, что она верная, точная, сильная и т. п., а в том, что она противоречивая, пульсирующая, живая. «Мыслей вам хватит на всю жизнь», — сказал Пришвину в 1908 году в Петербурге Философов.
В дневнике бесконечное разнообразие мира собирается в единую картину бытия: что бы Пришвин ни видел и какой бы страшной ни была эта картина, он воссоздает пережитое в своих записях. В 1930 г. он пытается, как и прежде, преодолеть фундаментальное разделение мира на идеальное материальное, причем теперь, можно сказать, в прикладном и столь очевидном смысле этого разделения, поскольку в современной ему действительности столкнулись победившая утопия и побежденная органическая жизнь: «Жизнь разбивается на две — досуже-поэтическую и буднично-деловую, потому что мы разделяемся в себе надвое… деловой взгляд на вещи должен скрывать в себе поэзию, а поэтическое воззрение… быть деловым», «жизнь разбивается на две, потому что мы распадаемся в себе на великих людей, двигающих историю, и на “быдло” наше, дремлющее в своем болоте, все от этого». Он не задает известного в русской культуре вопроса «кто виноват?», но прямо отвечает на него: «мы».
Пришвин пытался дышать, когда дышать, кажется, было нечем. Он пытался честно писать, когда писать честно, кажется, было невозможно… И только присущая жанру дневника внутренняя свобода давала возможность писателю говорить с самим собой на любые темы.
Дневник обнаруживает не только трагическую раздвоенность его личности. По своему мироощущению Пришвин, несмотря на беспрецедентное идеологическое давление, агрессивное внедрение нового во все сферы жизни, катастрофическое изменение и жизни и самого человека («смотришь, бывает, на человека и думаешь: что бы за человек он был, если бы марксизма не было»), неизменно чуток ко всему неповторимому и уникальному, к развитию и изменению, к разнообразию и движению мира. Потому и в 1930 году Пришвин, верный своей натуре и культурной традиции, которая его воспитала, сознает, что нужно жить, нужно делать свое дело. Он видит свою задачу в том, чтобы не покончить с собой, не бросить писательство, не уехать за границу, но «отстоять жизнь», иными словами — писать и, по возможности, выжить: «ставка теперь не на сильную личность в широком творческом смысле слова, а на личность, которая выживает».
В 1930 году Пришвин живет в Сергиевом Посаде, который как раз в это время переименовывается в Загорск. Его жизнь проходит под знаком «мещанских», бытовых забот, обычных для человека, живущего с семьей в собственном доме и вынужденного думать о заработке (Пришвины, к примеру, держат корову, и жена писателя продает соседям молоко). Человек народной жизни и судьбы, он не принадлежит к писательской элите, хотя и не попадает в число гонимых. В дневнике 1930 года Пришвин отмечает: «надо …жить своей обыкновенной жизнью и записывать, как обыкновенная жизнь изменяется в связи с событиями».
Вступительная статья и примечания Я. З. Гришиной
* * *
<Сергиев Посад>
4 Января.
Показывал Павловне[4] упавший вчера колокол[5], при близком разглядывании сегодня заметил, что и у Екатерины В<еликой> и у Петра П<ервого> маленькие носы на барельефных изображениях тяпнуты молотком: это, наверно, издевались рабочие, когда еще колокол висел. Самое же тяжкое из этого раздумья является о наших богатствах в искусстве: раз «быть или не быть» индустрии, то почему бы не спустить и Рембрандта на подшипники. И спустят, как пить дать, все спустят непременно. Павловна сказала:
— Народ навозный, всю красоту продадут.
Говорят, что коммунары «Смены» обязуются говорить о ней только хорошее— вот почему о хозяйстве в ней ничего не известно. На этом мотиве можно нанизать рассказ: везде ужас какое безобразие, а что в коммуне будет — не известно.
6 Января. Сочельник. Со вчерашнего дня оттепель после метели. Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множество мальчишек. Вышел дефективный человек и сказал речь против Христа. Уличные мальчишки радовались, смеялись, верующие молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь их зависит от кооператива, перестанут хлеб выдавать, и крышка! После речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. Верующие и кое-какие старинные: Тарасиха[6] и другие, молчали. И так вышло, что верующие люди оставили себя сами без Рождества и церковь закрыли. Сердца больные, животы голодные и постоянная мысль в голове: рано или поздно погонят в коллектив.
7 Января. Рождество. Продолжается оттепель. Вечером на Красюковке в маленьких домах, засыпанных снегом, везде светились огоньки лампад и праздника. Вдали слышался звон.
9 Января. Текучую оттепель ночью схватил утренник, взошло открытое солнце и сияло весь день не как на масленице, не как Вел<иким> постом, а как бывает в Апреле при запоздавшей первой весне — сила мороза уравновешивается силой солнца, и вся снежная громада зимы в ослепительном сиянии на волоске от исчезновения…
Одна мысль повертывается у меня в голове теперь постоянно, это — что коллектив государственный вполне соответствует строю русской деревни: вопервых, со стороны слежки друг за другом очень похоже... (об этом надо хоро шенько подумать). Главное вот что: мы, интеллигенты, воспитанные на европейских гуманных идеях, так оторвались от деревенского коллектива, что не можем без отвращения и возмущения думать о государственной «принудиловке», а между тем, очень возможно, она органически выходит из жизни крестьянина.
15 Января. В понедельник (13-го) вечером после заседания правления Федерации[7], у Воронского[8] встретил Пильняка и, наконец-то отвел себе душу: совершенно серьезно и самыми поносными словами я изругал его и как человека и как писателя. В ответ на это он уговорил меня ехать к нему в гости пить ликер, мне было совестно отказаться. Был у него, ночевал, выслушал его исповедь, признался[9] в дружбе с генералом от ГПУ, раскаялся в своем поведении и т. п. В конце концов у меня осталось, будто я был у публичной женщины и не для того чтобы воспользоваться ей, а только выслушать ее покаяние...
Леонов, хорошо откормленный, приобрел, в общем, довольно противный вид. Притом Воронский говорил, что он в последних своих писаниях мастерил ложно-советские вещи. Между тем, это был именно Воронский, кто первый обратил его на советский путь..
16 Января. Вчера приезжал Ю. М. Соколов[10] со свояченицей и французом. Осматривали музей. Две женщины делали вид, что рассматривают мощи преп. Сергия, как вдруг одна перекрестилась, и только бы вот губам ее коснуться стекла, вдруг стерегущий мощи коммунист резко крикнул: «Нельзя!»
Рассказывали, будто одна женщина из Москвы не посмотрела на запрещение, прикладывалась и молилась на коленях. У нее взяли документы и в Москве лишили комнаты.
Сколько лучших сил было истрачено за 12 лет борьбы по охране исторических памятников, и вдруг одолел враг, и все полетело: по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых организованных личностей.
Всегда ли революцию сопровождает погром («грабь награбленное»)?
Сильнейшая центральная власть и несомненная мощь красной армии — вот все «ergo sum» коллектива советской России. Человеку, поглощенному этим, конечно, могут показаться смешными наши слезы о гибели памятников культуры. Мало ли памятников на свете! Хватит! И правда, завтра миллионы людей, быть может, останутся без куска хлеба, стоит ли серьезно горевать о гибели памятников?
Вот жуть с колхозами! Пильняк уезжает в Америку. Крысы бегут с корабля.
19 Января. Обобщение с механизацией, кроме некой и человеческой личности, является началом, вероятно, всякого зла: жили-были Иван и Дмитрий, из них двух сделали одного большого, разделили его надвое, рассмотрели этого среднего, сделали заключение и применили его как правило к живому Ивану, равно как и к Дмитрию. Так начинается власть и борьба живых Иванов за себя с этой государственной властью. В наше время это доведено до последнего цинизма. Пока еще говорят «фабрика зерна», скоро будут говорить «фабрика человека» (Фабчел).
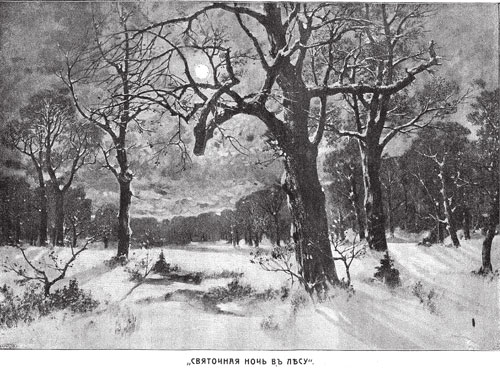
Вот во дворе сложена поленница березовых дров, сделанная для нашего тепла из когда-то живых берез. Мы теперь ими топимся и этим теплом, размножаясь, движемся куда-то вперед (мы — род человеческий). Точно так же как дрова, и электричество, и вся техника усложняется, потому что мы размножаемся. И так мы живем, создавая из всего живого средства для своего размножения. И, конечно, если дать полную волю государству, оно вернет нас непременно к состоянию пчел или муравьев, т. е. мы все будем работать в государственном конвейере, каждый в отдельности, ничего не понимая в целом. Пока еще все миросозерцания, кроме казенного, запрещены, настанет время, когда над этим будут просто смеяться. Каждый будет вполне удовлетворен своим делом и отдыхом. Вот почему и был разбит большой колокол: он ведь представлял собой своими краями круг горизонта, и звон его купно…
24 Января. Иной совестливый человек ныне содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повседневно: что самое невероятное преступление, ложь, обманы самые наглые, систематическое насилие над личностью человека — все это может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим рычагом истории, будущего.
Образы религиозной мысли, заменявшие философский язык при выполнении завета: «шедше, научите все народы»[11], ныне отброшены, как обман. «Сознательные» люди последовательны, если разбивают колокола. Жалки возражения с точки зрения охраны памятников искусств.
Нечто страшное постепенно доходит до нашего обывательского сознания, это — что зло может оставаться совсем безнаказанным и новая ликующая жизнь может вырастать на трупах замученных людей и созданной ими культуры без памяти о них.
25 Января. Лебедками и полиспастами повернули Царя так, что выломанная часть пришлась вверх. Это для того, чтобы Годунов угодил как раз в этот вылом и Царь разломился.
Жгун[12] определенно сказал, что «Лебедок» и с ним еще два сторонние колокола остаются.
26 Января. К вечеру у Карасевых (соседей) произошел страшный разгром. Человек только что выстроил дом, и вдруг все имущество описывается, дом отбирается, а сам всей семьей пожалуйте в какую-то другую губернию. Это его как бывшего торговца. Сына его Жоржа я описал в рассказе «Клубника»[13]. По-видимому, это начало разгрома купцов и лишенцев. Это будет страшней, чем когда-то помещиков. Во-первых, тогда думали все, что без помещиков жить можно, во-вторых, была мечта о будущем. Ныне все уверены, что без купцов никак не проживешь и что в будущем непременно голод.
27 Января. Так и продолжается время, день в день как в зеркало смотрятся. Я не помню другой такой сиротской зимы, всего один солнечный день простоял и эта неделя с дня солнцеворота.
Погром. Когда бьют без разбора правых и виноватых, и вообще, всякие меры и даже закон, совершенно пренебрегающий человеческой личностью, носят характер погрома. Ужас погрома — это гибель «ни за что, ни про что» (за грехи предков). «Грабь награбленное» — это погром. И так, наверное, всегда погром является непременным слугой революции и возможно представить себе, что погром иногда становится на место революции.
Нынешний погром торгового класса ничем не отличается от еврейского погрома и может кончиться еврейским погромом в собственном смысле слова, потому что евреи были торговцами с древнейших времен. Говорят, будто из Москвы начали высылать множество евреев...
Удались снимки медведя. Идея моя ввести в действительный зимний лес игрушку оказалась блестящей. Если не попаду в погромную полосу и не пропаду, оставлю после себя замечательную детскую книжку, мое слово любви, может быть, в оправдание всей жизни, может быть, так без всего: удалось и «ша!» (… и точка!) (раз-два и в дамки).
На Красюковке в Сергиеве, который на днях получил новое имя «Загорск» в честь местного партийца Загорского, до сих пор живет бывший голова города Москвы, бывший князь Владимир Михайлович Голицын. Он большой знаток французского языка и теперь переводит написанные на труднейшем старинном французском юмористические рассказы Бальзака. Его можно видеть часто сидящим на лавочке возле бедного домика в беседе с детьми, которых он знает по улице всех по именам.
Старец, сохранивший во всей свежести свою память, охотно погружается с вами во времена стародавние. Он рассказывает о своей встрече с царем Николаем Первым в детстве, с екатерининскими вельможами. Он живо передает свои впечатления от тронной речи Наполеона III, и неудачливый император, фронтовой кавалерист и уродливый пехотинец с большим туловищем на коротеньких ногах, встает как живой перед глазами. Встреча с бароном Геккереном, убийцей Пушкина. А учителем по русскому языку у Владимира Михайловича был сам Шевырев[14]. Случалось не раз, когда Владимир Михайлович рассказывал о своих встречах с екатерининскими вельможами, колонны пионеров барабанным боем прерывали наш разговор, и я уносился воображением во времена еще более давние, потому что, связав в себе живые свидетельства остатков екатерининского быта с <нрзб.> нынешнего, я становился как бы хозяином очень отдаленных времен.
Мощи преп. Сергия, открытые ныне для всех в музее местного края...
28 Января. Падение Годунова (1600-1930) в 11 у.
А то верно, что Царь, Годунов и Карнаухий висели рядом и были разбиты падением одного на другой. Так и русское государство было разбито раздором. Некоторые утешают себя тем, что сложится лучшее. Это все равно, что говорить о старинном колоколе, отлитом Годуновым, что из расплавленных кусков его бронзы будут отлиты колхозные машины и красивые статуи Ленина и Сталина...
29 Января. Проскочил морозный и ярко солнечный день, второй после солнечной недели (солнцеворот).
Мы отправились снять все, что осталось на колокольне.
Рабочие лебедками поднимали язык большого колокола и с высоты бросали его на Царя. Стопудовый язык отскакивал, как мячик. Подводы напрасно ждали обломков.
В следующем ярусе после него, заваленного бревнами и обрывками тросов, где висели некогда Царь, Карнаухий и Годунов, мы с радостью увидели много колоколов, это были все те, о которых говорили: останется тысяча пудов.
Это был, прежде всего, славословный колокол Лебедь (Лебедок), висящий посередине, и часть «зазвонных колоколов». В западном пролете оставался один колокол (из четырех). Можно надеяться, что это остался знаменитый «чудотворцев колокол», отлитый игуменом Никоном в 1420 году. В северном пролете оставались два, один из них царя Алексея Михайловича.
Нужно воспитание, чтобы молодежь уважала и любила священников, в естественном состоянии она не любит ни Бога, ни попов. Отсюда успех антирелигиозной пропаганды.
Тимофей рассказывал, как у них в Бобошино приезжали уговорщики, 6 человек. «Добровольно?», — спрашивали их. «Мы, — говорят — никого не насилуем». А когда за коллектив поднялось только 5 рук, сказали: «Ну, мы еще приедем и посильнее нажмем. У вас и постричь надо».
«Постричь» — значит, разорить более состоятельных, признав их за кулаков.
Мужики вообще привычные к войне, к стихийным бедствиям и готовы бы и в коллектив идти, но удерживает что: удерживает страх перед тем, что корову, лошадь отдашь, сарай отдашь на общий сарай, а потом, глядишь, все не состоит, и вернешься назад ни к чему, по миру ходить, и мира не будет...
Правда, страшно до жути. Хотя и мелочи тоже ужасны, например, молоко от коровы: доили корову, ребятишек кормили, а тут корова пошла в коллектив, и молоко твое увезут на продажу, а если тебе надо, свое же молоко купи.
Везде на улицах только и разговору, что о коллективе. В Доме крестьянина за чаем вдруг женщина ни с того ни с сего разревелась. «Что ты?» — спрашивают. Баба отвечает: «Перегоняют в коллектив, завтра ведем корову и лошадь…»
Некрещеная Русь.
Сколько размножилось безжалостных людей, выполняющих тяжкие госуд<арственные> обязанности по Чеке, Фиску[15], коллективизации мужиков и т. п. Разве думать только, что все это молодежь, поживет, посмотрит и помягчеет...
31 Января. Жгун с сокрушением рассказывал Леве о своем промахе: он доложил о трудности снятия Лебедя, и тут оказалось, Лебедь один из древнейших колоколов, и его решили сохранить. «Надо было кокнуть его на колокольне, — сказал Жгун, — а потом и докладывать».
Вот такие они все, техники. Такой же и Т., и Лева таким же был бы, если бы не мое влияние, и я, не будь у меня таланта.
1 Февраля. День солнечный, но не такой, как вчера: сегодня солнце в дымке, 29°С, вечером снег.Перемученные люди начинают создавать легенды. Вчера слышал, будто английский посол срочно выехал из Москвы. Сегодня говорят, будто англичане заняли Соловки. Это подходит предвесеннее время с непременной болезненно-острой надеждой на перемену. В нынешнем году, конечно, материалу для таких легенд безмерно больше.
2 Февраля. Продали Жданку за 400 р. и купили Червонку за 150. Коровы очень дешевы, от 150 р. — 350 р., потому что двух держать боятся и продают обыкновенно совхозам, колониям, которым резать коров можно. Вообще это мясо, которое теперь едят — это мясо, так сказать, деградационное, это поедание основного капитала страны.
3 Февраля. Мороз и ветер. Дома сидел. Трагедия с колоколом потому трагедия, что очень все близко к самому человеку: правда, колокол, хотя бы Годунов, был как бы личным явлением меди, то была просто медь, масса, а то вот эта масса представлена формой звучащей, скажем прямо, личностью, единственным в мире колоколом Годуновым, ныне обратно возвращенной в природный сплав. Но и то бы ничего, — это есть в мире, бывает, даже цивилизованные народы сплавляются. Страшно в этом некое принципиальное равноду шие к форме личного бытия: служила медь колоколам, а теперь потребовалось — и будет подшипником. И самое страшное, когда переведешь на себя: «Ты, скажут, писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем тебе писать о колхозах».
6 Февраля. Кулаки. Долго не понимал значения ожесточенной травли «кулаков» и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние. Теперь только ясно понял причину злости: все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор, через 12 лет, мы живем в значительной степени. Все эти люди, достигая своего, не знали счета рабочим часам своего дня. И так работают все организаторы производства в стране. Ныне работают все по часам, а без часов, не помня живота своего, не за страх, а за совесть, только очень немногие.
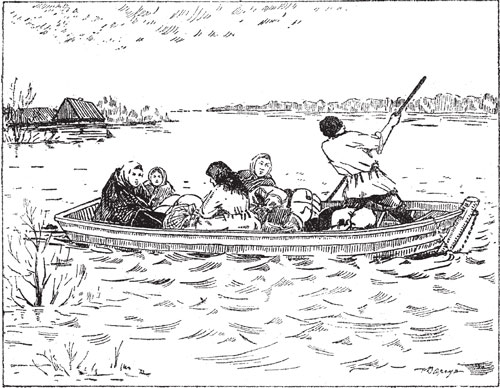
<На полях> Я, когда думаю теперь о кулаках, о титанической силе их жизненного гения, то большевик представляется мне не больше, как мой «Мишка» с пружинкой сознания в голове.
(Чувство жизни).
Можно себе представить безбожника, который произносил бы речи в деревне, закрывал церкви, но раз, когда ночевал у старухи и, проснувшись, заметил, что «Неугасимая»[15] погасла, зажег ее.
Два разоренные, обобранные попа, в чем были, в паническом страхе бежали из Александровского уезда. На станц. Берендеево они сошли с поезда, остриглись, переоделись в какое-то рубище и потом продолжили свой путь до Сергие ва. Тут было раньше прибежище всем таким людям. Но теперь нет ничего, и уже имя свое Троица переменила. Теперь это Загорск.
7 Февраля. Леонов, благополучный писатель, печатает в «Новом Мире» новый роман «Соть». Леонов — стилистическая отрыжка эстетической эпохи девятисотых годов после первой революции. Испортил его, по-видимому, Воронский, соблазнив «Красной Новью».
8 Февраля. Непокорные колокола (Истор. Вестник, 1880, т. П, ст. 796). Битва под Нарвой (1700 г.). В 1701 г. неслыханная мера — _ часть колоколов отобрать. В конце 1701 г. было добыто 8000 пуд. меди.
18 Февраля. В среду из Москвы в Питер, в понедельник в Москву. Воронскому снова хорошо, потому что он ограничивает себя литературой. «А как вам было, — спросил я, — когда вы служили? — Там очень отвлеченно, — ответил он, — не по мне...» A может быть, это у него природный семинарский оптимизм, культивированный литературно-политической богемой? Интересно его замечание, что ГПУ собрало в себя все талантливое; причина этому, во-первых, что оно бесконтрольное.
Алеша Толстой, предвидя события, устраивается: собирается ехать в колхозы, берет квартиру в коллективе и т. п. Вслед за ним и Шишков. Замятин дергается... Петров-Водкин болеет... Чтение «Погорельщины»[17]. Некий Лев... Куклин. Шаг в «Октябрь».
22 Февраля. Классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъясненных лишенцами). Каждый день нарастает народный стон.
Память отшибло.
В какой-то деревне (рассказывала Марья-о-го-го[18]) две вдовы не согласились идти в колхоз и, конечно, как ведь говорится, что насилия нет, по их требованию выслали землемера нарезать им землю, двум особенно. Этот землемер был известный всем, потому что ездил везде с ударной бригадой и уговаривал мужиков идти в коллективы. Случилась, когда этот землемер нарезал вдовам землю, оттепель, где-то на льду поскользнулся, упал навзничь и затылком пришелся об лед. Вдовы помогли ему подняться, а он, как оправился, и говорит им:
— Вот, милые вдовушки, только вы две во всей деревне оказались людьми и не пошли в коллектив, умные вы и хорошие, а они все бараны.
Вдовы это поняли так, что землемеру при ударе затылком об лед память отшибло, и он сразу все выученное забыл и стал, каким был. Дивный этот случай обращения землемера — от человека к человеку потихоньку обошел весь край.
<На полях> Об ударниках всюду теперь пошли легенды в том роде например, что вот-де говорили, говорили — уговорили мужиков, но один ударник вышел до ветру и там одному мужику сказал: «Стойте на своем до последнего, нас не слушайте, мы тоже за вас, да нам нельзя, мы не сами говорим».
От хорошей жизни. Рассказывал на базаре садовник, будто два мужика легли под машину и оставили после себя записку: «В смерти своей никого не виним, уходим от хорошей жизни».
24 Февраля. Заключил договор с Федерацией о книге рассказов (взял вперед 625 руб.).
В Октябре: рукопись[19] увез Фадеев, ответ через 4 дня.
Окрмолокосоюз. Шел я вечером по Петровке, думаю о своем, ничего не вижу, и вдруг очнулся: я стоял у витрины магазина окружного молочного союза. Десятки сильных электроламп заливали светом пустые прилавки, огромные раскрытые цинковые баки, предназначенные для хранения масла и тоже пустые. Совсем ничего не было в пустом магазине, только кое-где желтелись и красовались головки деревянных бутафорских сыров. А посередине магазина был столик какой-то, совсем чужой этому молочному магазину, у этого столика, согнувшись, какой-то человек резал алмазом стекло, резал и отламывал, а другой, вероятно, заведующий магазином, в хорошем пальто с каракулевой шалью, заложив руки в карманы, смотрел, как другой режет стекло, и видно было, что он очень скучал и проводил время: только бы шло!
Какая фантазия даст такой образ! В чем же дело? Значит, надо избегать пользоваться своей фантазией, легкой и несовершенной, а идти к самой жизни, которая и есть сущность фантазии.
Головы.
На Heглинной у черного входа вМосторг всегда стоят ломовики: одни привозят, другие увозят товары. В одной фуре малый, кем-то расстроенный, взлезал по каким-то невидимым мне товарам, вероятно, очень неустойчивым: то взлезет, то провалится, грозится кому-то кулаком и ругается матерным словом. Я заглянул в сучок боковой доски огромной фуры, чтобы увидеть, какие же это были неустойчивые товары, и увидел множество бронзовых голов Ленина, по которым рабочий взбирался наверх и проваливался. Это были те самые головы, которые стоят в каждом Волисполкоме[20], их отливают в Москве и тысячами рассылают по стране.
Выйдя на Кузнецкий, сжатый плотно толпой, я думал про себя: «В каком отношении живая голова Ленина находится к этим медно-болванным, что бы он подумал, если бы при жизни его пророческим видением предстала подвода с сотней медно-болванных его голов, по которым ходит рабочий и ругается на кого-то матерным словом».
Самых хороших людей недосчитываешься: честнейший человек в уезде, всеми уважаемый, описанный мною в «Журавлиной Родине» А. Н. Ремизов[21] сидит в тюрьме. Академик Платонов[22], которого я слушал когда-то... И какая мразь идет на смену. Так создается новое время, и новые хорошие люди не будут как мы вверять себя: они будут знать, что вокруг них мразь, а свое упование будут охранять в недоступных тайниках личности...Так сформируются сложные (европейские) люди, а наша Россия была очень проста
1 Марта. Сущность жизни, конечно, игра (фантазия, свобода), но чтобы жить играя, надо быть, как дети. Редкие могут быть, как дети, но смутно все этого хотят, повторяя лицемерно заповеди необходимости и долга. Когда же начинается революция, все вместо долга начинают игру, только будучи рабами, закончат игру эту в стенах долга и необходимости: вот почему и не бывало искусства во время революции.
2 Марта. Вчера было напечатано распоряжение о том, чтобы в средних школах не мучили детей лишенцев за их лишенство. Так резко выделялись эти строки среди человеконенавистнических, что все это заметили и все об этом говорили. К этому так странно прибавляли, что будто бы к 15 Марта хотят отменить пятидневку. В воздухе запахло поворотом: боги насытились кровью. И правда, сегодня напечатана статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой он идет сам против себя[23]. Едва ли когда-нибудь доходили политики до такого цинизма: правда, как на это смотреть, если я, напр., отдав приказ об уничтожении колоколов, через некоторое время, когда колокола будут разбиты, стал бы негодовать на тех, кто их разбивал.
В учреждениях, в редакциях, в магазинах сонно, пусто и как-то пыльно, везде остатки чего-то, хлам. Да, по-видимому, дальше идти некуда…
3 Марта. Морозик пересидел (так понимаю положение после статьи Сталина).
Шалуны государственные постановили обработать общество перед раскулачиванием: эффекты сбрасывания колоколов, разгрома церквей, музеев. В ответ на эти шалости некоторые люди молились Богу! Так вот интересно располагаются типы тех и других (кошки и мышки).
Поражает наглая ложь. (Умные лгут, глупые верят). Пишут, будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами. Это совершенно то же самое, что в 18 году «грабь награбленное»: кто-то разрешил грабить, а потом грабеж сам пошел и стал народным. Такого рода «успехи» кружат голову. Кончается тем, что центральная власть отнимает «самость» у движения и винит во всем разгулявшихся товарищей (легкую кавалерию).
Баба, нанятая кооперативным магазином «Смычка» № 1-я, на улице в нагольном полушубке рубила лед. Другая баба подошла и спросила:
— Ты чего это?
— Чего… — ответила работница, — а ты чего?
— Я иду за капустой, не иду, да гонят.
— Ну и надо мной тоже стоят.
— Кто же над тобой стоит? — А вон…
Баба показала на двух в пальто с барашковым воротником.
— Чего же они стоят?
— Известно чего, работать не умеют и стоят…
Лица в пальто был заведующий коопер. № 1 «Смычка» и его помощник. Баба разбивала лед от «Смычки».
— Что же они стоят?
— Работать не умеют и стоят, — ответила баба с ломом.

5 Марта. В деревне сталинская статья «Головокружение», как бомба разорвалась. Оказалось, что принуждения нет — вот что! Дом, корова, птица, огород не подлежат коллективизации! Гнули в три дуги. Председатель Кузнецов прямо говорил: «Вас надо стричь» (в Соловки высылать). Грозили прямо: «Не пойдете в коллектив, заморим: корки не дадим!» И вдруг нате: «У нас не полагается принуждения, изба, корова, огород не подлежат…»
В коммуне «Смена» долго крепились и молчали, потому что страшно сказать: выгонят — куда пойдешь? Но мужики все-таки дознались и вот как. Однажды женщина из колхоза ездила в Сергиев за бумагой: <нрзб.>, так вот бумага нужна. Едет эта женщина за бумагой. Идут три женщины еще, тоже из коллектива и просятся подсадить. Та женщина отказала, а когда они хотели садиться сами, то дала им кнутом и уехала. А мужик сзади ехал и тех трех женщин подсадил.
Так вот эти бабы ему и сказали: «Беда у нас в коллективе, что делается страсть сказать: коровы есть, молока не дают и резать нельзя, поехали к Калинину хлопотать о разрешении. А хлеб, только что родные принесут, то и едим. Даже и капусты нет.— Куда же капуста-то делась? — спросил мужик, — ведь я сам видел: огороды были хорошие. — Все за налоги пошло, — ответили женщины, — привезли им капусту рубленую соленую, они взяли ее да под пресс, выжали, а потом свешали». Так вот и вас всех, сказали женщины, разными обещаниями и угрозами загонят в коллектив, а там, — как кислую капусту. Крепитесь до последнего, умирать будете — умирайте, да не соглашайтесь. А не выдержите, зажмут вас и выжмут, как капусту под прессом.
Длиннобородый рассказал с упоением, что уж он это знает сам: пять колхозов с воскресенья распались, это только вокруг него, а там по округу мало ли чего творится. Собрались где-то обсуждать устройство колхоза. Выходит человек с газетой в руках и говорит: я думал и понимал, в колхоз идти обязательно, а тут вот написано, что это по доброй воле. Ежели по доброй воле, то до свиданья, товарищи! И вышел, а за ним еще кто-то, и еще, да так мало-по- малу без всяких слов все показали затылки, и стол остался пустой.
Неужели Сталина совершенно переварили, не пролив капли крови? Или это все впереди?
11 Марта. С некоторого времени интеллигенция разделилась, одни стали думать, как большевики пишут, что все кончится непременно войной; другие надеются на медленный спуск вплоть до полного открытия границ капиталу. После манифеста Сталина это разделение стало особенно заметно, одни понимают манифест как уступку, за которой пойдут новые уступки, другие подозревают в этой уступке обход мужика: берут в обход.
12 Марта. После манифеста мало-помалу определяется положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, это значит, мужик стал продавать в пользу себя, а не распродавать ввиду коллективизации. И заметно многие перестали думать о войне, что, по всей вероятности, и более верно: не будет войны. Сколько же порезано скота, во что обошелся стране этот неверный шаг правительства, опыт срочной принудительной коллективизации. Говорят, в два года не восстановить. А в области культуры, разрушение всей 12-летней работы интеллигенции по сохранению памятников искусства?
15 Марта. Вернулась зима. Второй манифест. Все злодейство этой зимы с государственной точки зрения названо «искривлением партлинии»[24].
16 Марта. Валит снег. А. Н. Тихонов (я говорю о нем, потому что он, Базаров[25] — имя им легион) все неразумное в политике презрительно называет «головотяпством». Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой», — ответил Каменев.
Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы относят не к руководителям политики, а к головотяпам. А такие люди, как Тихонов, Базаров, Горький еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей… Для них, высших бар марксизма, головотяпами являются уже и Сталины… Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства».
Они презирают правительство, но сидят около него и другого ничего не желают. Вот Есенин повесился и тем спас многих поэтов: стали бояться их трогать. Предложи этим разумникам вместе сгореть, как в старину за веру горели русские люди. «За что же гореть? — спросят они, — все принципы у нас очень хорошие, желать больше нечего: разве сам по себе коллективизм плох или не нужна стране индустриализация? Защита материнства, детства, бедноты — разве все это плохо? За что гореть?»
Вероятно, так было и в эпоху Никона: исправление богослужебных книг было вполне разумно, но в то же время под предлогом общего лика разумности происходила подмена внутреннего существа. Принципа, за который стоять, как и в наше время, не было — схватились за двуперстие и за это горели. Значит, не в принципе дело, а в том, что веры нет: интеллигенция уже погорела.
Месяц тому назад я был свидетелем гибели редчайшего, даже единственного в мире музыкального инструмента — Растреллиевской колокольни: сбрасывались один на другой и разбивались величайшие в мире колокола Годуновской эпохи. Целесообразности не было никакой в смысле материальном: 8 тыс. пудов бронзы можно было набрать из обыкновенных колоколов. С точки зрения антирелигиозности поступок не может быть оправдан, потому что колокола на заре человеческой культуры служили не церкви, а общественности. И единственный в мире музыкальный инструмент — Растреллиевская колокольня могла бы служить делу социализма: на ней можно было играть 1-го мая революционные марши, и процессии рабочих под звуки революционных колоколов, единственных в мире, привлекли бы к делу социализма любопытное внимание иностранцев.
Я являюсь в религиозном отношении человеком совершенно свободным и разделяю вполне взгляд Перикла: чем больше богов, тем государство богаче. Я являюсь смертельным врагом того мрачного фанатизма, который, несомненно, живет в сердцах некоторых влиятельных членов партии и порождает те преступления относительно живой жизни, которые pоst factum называют искривлением партлинии.
Я готов с эпиграфом Сталина «снять колокола — подумаешь, какая революционность!» написать новую «поэму с фотографиями». Я напишу ее с темпераментом и без малейшего лукавства.
Если мне будет дана возможность высказаться, не озираясь на «партлинию», то я готов удовлетвориться не только гонораром пролетарского писателя, а даже и вовсе отказаться от денег, если их мало в редакции.
Обсудите с товарищами мое предложение и напишите безоговорочно: да, или нет. Если да, я приступаю к работе, нет — буду продолжать писание своей книги для маленьких детей.
18 Марта. До восхода — 25°. Весна света сияет. С медведем хожу в снегах и такие вижу в лесах сказочные долины с голубыми тенями и через долину след лисицы — против солнца черный по белому, по солнцу белый по-серому.
Что это, правда щелкнула белка орехом или мороз поиграл или так что- нибудь: мало ли что может в лесу… Но что же именно может быть, если не белка щелкнула и не мороз поиграл? Притаился где-нибудь человек? Нет, в снегах зимой после пороши птица-тетерка спускается погулять вокруг можжевельника, и то видно, зачем птица! мышонок пройдет, и то останется бисерная ниточка на снегу, даже сухой лист скорченный упадет на снег и ветер погонит его, то от этого листа остаются тоже следы. Что же это, нет-нет, и щелкнет, совершенно как если на очень хороший молодой зуб и крепкую челюсть орех попадет? Нет, беличьи следы с каждым часом слабеют, жарко идти, солнце жарит в лоб, пахнет солнцем, рубаха вся в поту, лыжи хорошо еще <нрзб.>. Нет, и не мороз. Я не знаю что, и так пусть останется. Я не знаю, но есть много такого в /самой/ природе, чего не знаем …
20 Марта. Три солнечных дня кончились бурей с дождем. Всю ночь на пятницу гудело. Трубецкой[26] принес /нрзб./ известие, что грачи прилетели.
24 Марта. Беседа по пути в Москву с Алексеем Михайловичем Егоровым. Как у них распался совхоз: в эти дни, когда вышла газета с первым манифестом свободы, пришел один в сельсовет и подал заявление, без всяких объяснений, молча, что он из колхоза выходит. Вслед за ним другой и тоже молча, и третий, и повалили все, и никто не сговаривался, все молча каждый за себя отказались.
— И как иначе, — сказал А. М., — если в газетах было запрещено насилие: какой человек охотой пойдет в принудиловку? Осуществили у меня корову (обобществили), осуществили лошадь, свинью зарезать велели и мясом представить. А в газетах говорят, что корова, лошадь, изба моя, огород, все это мое и вещи все мои. На каждую вещь я имел охоту, за каждой вещью я как за лисицей охотился. И когда остался я без охоты в коллективе, стал всякую мою вещь, нажитую охотой, спускать за бесценок, чтобы не себе и не им. Без вещей и без охоты шел я в коллектив, как на войну околевать, и вдруг читаю в газетах, чтобы никакого принуждения не было и все шли в колхоз только по доброй своей воле. Как прочитал, пошел в сельсовет и подал заявление молча, что …
26 Марта. Мирон рассказывал с отличным своим смехом, что Шараповский колхоз распадался с великим боем: три дня мужики бились. «Из-за чего же бились?» — спросил я. «По разным причинам, — ответил Мирон, — Прохор бился из-за овса: когда лошадь сдал в коллектив, то с ней сдал 17 пудов овса, а когда лошадь получил обратно, овес ему не вернули. Как же ему, правда, с лошадью весной в распутицу оставаться без корма?» По разным причинам так бились мужики Шараповского колхоза три дня, а вот где-то в Спас ли Закубежье или у Дмитрия Солунского и посейчас бьются: согнать дались в коллектив, сойтись — сошлись, а разойтись не могут.
Мирон еще рассказывал со смехом:
— Смотрю, стоит у окна, стучится ко мне один из бригады: уговаривал идти в колхоз, ругался, грозил лишить мануфактуры, пайка, обещался собственными руками зарыть, когда с голоду издохну. Теперь стоит, улыбается. «Ты что, —говорю, — опять уговаривать?» — «Нет,— отвечает,— чинить приехали, если плуг или борона там или что…» Вытащил я плуг, десять бы рублей надо, а он так починил. «Да что же, — спрашиваю, — с вами сделалось? То кидался, как ястреб на курицу, а то… поди вот». Он отвечает: «Мы перегнули, теперь исправление направления и насчет веры не стесняем: собрались 6 человек — и верьте! И Пасха придет, у кого куличи будут, тоже стеснять не будем, только узнаем, у кого куличи, придем и будем рассказывать и пояснять, что все это тьма и предрассудок».
Мирон же на это будто бы ответил:
— Так-то ничего, мы будем есть, а ты стой и рассказывай.
После мрачной поры, когда вот-вот ждали мы кровавого конца, все вдруг кончилось комедией: колхозы распустились с боем и смехом…
27 Марта. Утро было морозно солнечное и в расчете, что разогреется и сложится роскошный день, мы с Павловной пошли в Бобошино. До полудня солнце светило через окошечко, потом пошел мелкий снег, и вечером, когда мы возвращались, вернулся зимний ландшафт.
Скворцы прилетели, но еще беспокойно перелетают с дерева на дерево и не занимают скворечников. Тетерева, говорят, воркуют по утрам.
Шеф.
В Бобошине Еремин бедняк держал всю деревню в страхе. Первое, конечно, что бедняк и у него особенные права. В последние дни («до газеты») страх в народе дошел до невозможного. Довольно было, чтобы на улице показался какойнибудь неизвестный человек с папкой в руке, чтобы бабы бросались прятать добро, а если нечего прятать, то с болезненным чувством ожидать какой-нибудь кары. Тимофеева Мария рассказывала, что бабы по вечерам бегали друг к дружке, сговаривались в случае беды мужиков услать куда-нибудь в лес, а на сходку выходить одним бабам, потому что мужиков со сходки берут, а баб оставляют с детьми, а если бабу взять, то и детей надо. И обещались бабы стоять до последнего и в коллектив нипочем не соглашаться. Так и ожидали этой сходки, как смерти: помрем вместе с ребятишками, подохнем с голоду, а в коллектив не пойдем.
И до того дошло ожидание чего-то страшного и последнего, что как только покажется на улице неизвестный человек с папкой, баба думает: «вот оно, начинается!» и бежит и прячет, если есть, какое лишнее добро, потом бежит сказать соседке. «Бывало, — рассказывал Мирон, — побежит к бабам, а дома ребятишки молятся: «Господи, не дай нам попасть в коллектив». До того дошло у детей, что Мирон своих уж отговаривал: «Глупые вы, чего вы боитесь, у нас лепешки овсяные, а там будут белые, там сахар, молоко, кисель»…
Один только Еремин бедняк ничего не боялся и всю деревню в страхе держал, первое, потому что он бедняк и у него права, второе, что на сходке горланил и яро требовал коллектива, третье, был здоров и хлестко дрался: говорить против него было опасно, встретишь в лесу один на один и отлупит. Их было, Ереминых, два брата, этот, Антошка, и Тимофей. После отца братья разделились, отцовский старый дом достался Антону, а Тимофей пошел жить на квартиру и через пять лет поставил себе новый дом и отличное завел хозяйство: три коровы, две свиньи, пять овец. У Антона же не только ничего не прибавилось, а даже и что было — ушло, и дом отцовский стал вовсе разваливаться: матица прогнулась, треснула, потолок чуть не подавил семью. Мастер кое-как справил дом, сделал железную скрепу, схватил ею матицу, винт пропустил и вверху навинтил гайку. Ну вот, когда стали сверху настаивать на колхозе, Антон сразу горячо взялся за колхоз, потому что у него мысль была: когда, мол, утвердят колхоз, отвинчу я наверху гайку, матица разломится, потолок завалится, и я тогда буду у колхоза требовать себе новый дом. Из-за того и спорил, и бился на сходках за колхоз, и доносил, и держал всех в большом страхе. А когда газета вышла, и была объявлена свобода: хочешь — иди в коллектив, хочешь — живи, как жил, то приехали все это разъяснять с Мытищенского завода шефы. Собрали сходку, и шеф стал извиняться, что перегнули, и линию партии искривили разные недобрые люди: бюрократы.
Конечно, тут все вздохнули свободно и стали высказывать и жаловаться. Рассказали и об Антоне все с самого начала, как он разделился с братом и ему досталась изба, а через некоторое время у брата Тимофея явилось хозяйство, и чуть его за это не раскулачили, а у Антона отцовская избушка чуть не рухнула, и что он матицу схватил болтом и рассчитывал, когда начнется колхоз, гайку отвинтить, обрушить потолок и требовать себе новый дом.
— Всех нас в страхе держал, — сказали шефу на сходке.
И спрашивали мужики и бабы шефа, что как понимать теперь, после газеты, таких бедняков.
Шеф вспыхнул, переменился в лице и проговорил:
— Дайте вы ему в морду.
Потом одумался и поправился:
— Нет, я ошибся, извините, нельзя бить по закону в морду никакого человека. Так вот вы не бейте его в морду, а просто плюньте — все, плюньте ему в глаза и не ответите.
Учительница в Бобошине партийная и гуляла с шефом, а муж ее служил в красной армии. Вот было в школе представление для детей, и для этого привезли из Позохина икону. После спектакля икону эту бросили на пол, и так она долго лежала на полу, и через нее сор мели, не обращая внимания. Вот однажды приезжает в побывку муж из армии, по пути, конечно, узнал, что жена гуляла с шефом. Пришел домой — ее нет, а на полу в школе валяется в пыли икона. Поднял он икону, протер платком и поставил на подоконник, а сам пошел тихонечко загумной дорожкой. Его кто-то встретил там и спросил — чего это он идет загумной дорожкой. «Совестно, — ответил он, — мне по улице идти. Прощайте, больше вы меня никогда не увидите». И пропал.
28 Марта. Ночным большим снегом завалило, было, всю весну, но… вот штука! Написал «но», и представилась передовая «Известий» после манифеста: пишут их, начиная о здравии или за упокой — и кончают, если началось за упокой — о здравии, а если началось со здравия, то конец за упокой: и ровно посередине (надо будет сосчитать строки) непременно бывает это «но»: например, если началось со здравия, похвальбой удивительным невиданным ростом колхозов и прогрессивно возрастающим крестьянским самосознанием, то строк так через полтораста перечисления всевозможных доблестей партийного строительства следует роковое «но», после прогрессивного возрастания в напряженности следуют примеры и левого загиба и перегиба. Наоборот, если барин встал с левой ноги, то после «но» следуют примеры правого уклонизма с призывом собрать все силы для борьбы с кулаками, которые в гонениях как будто даже окрепли духом и стали особенно опасны: разоренные, обезличенные, они срываются с мест и там, где их не знают, проникают в колхозы, вконец разлагая их…
30 Марта. И вчера было холодно весь день, по городу ходить невозможно: все во льду. А сегодня и вовсе метель настоящая зимняя. Ландшафт глубокой зимы. В газетах пророчат холодный Апрель и тепло только с 10-го Мая.
Враги большевиков при «левом загибе» страшно радовались. Теперь большевики отступили, и у них уныние. Так крыло левое и крыло правое касаются друг друга (франц. — противоположности сходятся): очень яркий пример. А я? Нет, я не с правыми… И ненавижу левых. На одной стороне мундир и полиция, на другой — хамская наглость.
Уважаемый тов. Крыленко[27].
У научного сотрудника Дорогобуж. музея искусства Н. И. Савина только в минувшее время «левого загиба» отняли ружье под предлогом, что оно музейное.
Я лично сам работал в этом музее с Савиным и свидетель, что это ружье Зауера куплено было Савиным при мне и что Савин человек абсолютно честный и совершенно предан своему делу.
Я обращаюсь к Вам за помощью, как к имеющему власть товарищу по охоте, потому что однажды при личной встрече на Вашем и моем пути за медведями на вопрос мой, знаете ли Вы меня как писателя-охотника, Вы сказали: «Хорошо знаю».
Себя же рекомендовать мне Вам нечего, все охотники меня знают по сочинениям, и мы с Вами даже лично познакомились при поездке Вашей на медведей. Николай Васильевич, велите, пожалуйста, вернуть ружье Савину.
С охотничьим приветом.
Михаил Пришвин.
1 Апреля. Из очень верного источника слышал, что в Рязанской губернии во время мужицкого бунта бабы с детьми стали впереди мужиков, и солдатики не стали стрелять. В царское время ничего такого быть не могло: солдаты бы, конечно, стрельнули, но не вышли бы бабы, потому что только коллективы могли довести бабью душу до героизма. И этот мотив, отмеченный мной, уже рассказала Марья—ого-го! характеризует, наверно, всю страну в эпоху «левого загиба».
В политике сейчас, как весна: рванулось вперед, и опять все заморозило. У нас остались только базары. Радуйся базарам: масло, яйца, сколько хочешь! И мужикам вообще стало хорошо. Когда и куда теперь еще рванет?
2 Апреля. Снегу навалило больше, чем зимой. Читаю «Робинзона» и чувствую себя в СССР, как Робинзон. Это свойство всех крупных произведений — передавать мысль на себя. Так что бывает недоумение: что, это автор открыл твои глаза на твою вечную, присущую всем черту, или же так пришлось, что избранные автором черты жизни как раз были твоей особенностью?
Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами, что только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов.
<На полях> Сталину:
Среди ограбленной России
Живу, бессильный властелин.
И вот размышляешь в своей пещере, задавая главный вопрос: есть ли наша революция звено мировой культуры или же это наша болезнь?
Если это наша болезнь, то болезнь как например, сифилис, полученная извне случайно, или же болезнь как следствие своей похоти. Или это болезнь роста, вроде юношеской неврастении?
Я хочу думать, что это у нас болезнь роста в том смысле, что и если «Россияколония», то и это как неизбежная болезнь роста, и, значит, например, явление Сталина с его «левым загибом» — неизбежно было что-то вроде возвратного тифа.
Пойму (хотя не разделяю), если поставят вопрос: «Идея или народ», то, конечно, это болезнь, если ставят, как у нас: «Машины или народ?»
Теперь, когда на базарах опять яйца и масло, пасмурен ходит творец великой формулы «машины вместо народа», он понимает этот поток яиц и масла в сторону потребления граждан как огромный убыток государству, ведь все это должно бы уйти за границу на уплату долга за машины.
До газеты. Статья «Головокружение» в деревне теперь как эра, так и говорят всюду, начиная рассказ: «Было это, друг мой, до газеты»… Или скажут: «Было это после газеты».
И немудрено, это эра. В этом краю ремесел центральной и прилегающих областей нет села и деревни, где бы люди веками не занимались каким-нибудь ремеслом, часто удаляясь из дома и оставляя земледелие бабам. Какое это земледелие! Но ремеслу не посчастливилось, с первых дней революции рухнули в столице мастерские, кустари явились домой, сели на бабьи наделы и стали земледельцами. Подросла не обученная ремеслу молодежь… Попробуйте таких в коллектив! А между тем «левый загиб» автоматически загибал и в этом краю.
4 Апреля. Вчера опять Сталин. Оказался прав тот мужик, который, прочитав манифест, сказал, что хотят взять мужика в обход. Обозначился обход: опубликованы льготы колхозникам и подчеркнуто, что крестьяне вне колхозов этих льгот иметь не будут. Иначе говоря, государственные налоги должны будут платить дикие крестьяне. Иначе и быть не может, на мужиков правительству опереться нельзя, значит, надо создать верных мужиков (то были столыпинские «крепкие земле» мужики, теперь колхозники, т.е. крепкие правительству).
В общем, острота миновала. Если сев пройдет более или менее благополучно, то по обыкновению общественное сознание на летнее время провалится, а осенью обозначится неизвестно что…
5 Апреля. Рубят лес мужики из Березовки. Мне они рассказали вот что. Нужно было кого-нибудь раскулачить, а нет кулака, бедная деревня — один середняк. Вспомнили, наконец, что у Семена Ивановича есть стенные часы, ореховые, с боем, без гирь и заводятся всем на удивление раз в месяц. Вот и решили эти часы отобрать. Свезли в сельсовет и повесили. На другой день выходит газета. Раскулаченный человек — в Совет с газетой, показал. Делать нечего, часы отдали…
— Значит, — сказал я, — раскулачили и опять окулачили. Смешная история!
— Смешная, — согласился мужик, — только куда тут смеяться: страшно, не до смеху.
— Да, — сказал я, — может быть, не смеяться надо, а плакать.
— И плакать нельзя, — сказал он, — смеяться страшно, плакать — некому слез утереть[28].
Публикация Л. А. Рязановой
[1] См.: Пришвин М. М. Дневники. 1914–1917. 1918–1919. 1920–1922. М.: Московский рабочий, 1991, 1994, 1995. Дневники 1923–1925. 1926–1927. 1928–1929. М.: Русская книга, 1999, 2003, 2004. Нужно отметить, что даже в 60-е гг., когда из забвения вышел целый ряд писателей и поэтов, публикация дневника Пришвина, за исключением немногих вырванных из контекста записей, оказалась невозможной, — точно так же, как публикация его очерков революционных лет (впервые напечатаны в кн.: М. М. Пришвин. Цвет и крест. Неизвестные произведения 1906–1924 годов. Спб. Росток, 2004), ряда рассказов и повести «Мирская чаша» (1920, впервые напечатана с существенными купюрами в 1978 г. См.: Собр. соч. в 8 т., М., Т. 2. С. 484–556).
[2] Когда Пришвину в 40-е годы позвонили из Союза писателей и намекнули, что надо в печати «имя назвать» (Сталина, естественно), он записал в дневнике: «Я должен имя назвать, я должен быть распят во власти, я должен быть просвечен насквозь как Леонов. А разве я могу?»
[3] Ср.: Михаил Рыклин. Террорологики. Тарту-Москва: Эйдос. 1992. С. 149.
[4] Ефросинья Павловна — первая жена М. М. Пришвина.
[5] Речь идет об уничтожении колоколов Растреллиевской колокольни в Троице-Сергиевой лавре в январе 1930 года (кроме дневниковых записей, об этом свидетельствуют более 200 фотографий, сделанных Пришвиным).
[6] Евдокия Тарасовна — жена литератора А. А. Александрова (1861–1930), бывшего преподавателя Московского университета.
[7] Издательство, орган Федерации объединений советских писателей (ФОСП), созданное в 1929 году на базе кооперативных издательств. Первым директором издательства был А.Н. Тихонов (псевдоним — Серебров, 1880–1956). В 1933 году переименовано в издательство «Советская литература», которое в 1934 году влилось в издательство «Советский писатель».
[8] А. К. Воронский (1884–1943) — советский критик и писатель, ответственный редактор первого советского литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь» (1921–1927).
[9] Так в тексте. Из следующей фразы ясно, что в дружбе с генералом ГПУ признался Пильняк.
[10] По-видимому, речь идет оЮ. М. Соколове (1889–1941) — известном фольклористе, одном из организаторов кафедры русского устного народного творчества на филологическом факультете Московского университета.
[11] Слова Христа, обращенные к апостолам (Мф.28,19).
[12] Возможно, один из местных партийцев, руководивший уничтожением колоколов.
[13] Рассказ Пришвина с таким названием неизвестен.
[14] С. П. Шевырев (1806–1864) — поэт и литературный критик, профессор Московского университета.
[15] Здесь: комиссия, ведавшая конфискацией имущества.
[16] Лампада в красном углу, в которой всегда поддерживался огонек.
[17] Поэма Н. А. Клюева (1887–1937), написанная в 1928 году. Впервые опубликована полностью в 1987 году.
[18] Деревенское прозвище.
[19] Имеются в виду очерки «Каляевка» (опубликованы в журнале «Октябрь», 1930. № 3 под названием «Девятая ель»).
[20] Волостной исполнительный комитет — орган местной государственной власти.
[21] Владелец трактира в местечке Зимняк (Дубна), о котором Пришвин в книге «Журавлиная родина. Повесть о неудавшемся романе» (1929) писал: «Трактир Ремизова — это ключ ко всей устной словесности Московского Полесья». (Собр. соч.: В 8-ми т. — М.: Художественная литература. 1982. Т. 3. С. 75).
[22] Академик С. Ф. Платонов (1860–1933) — историк, директор Пушкинского дома и Библиотеки АН СССР.
[23] В этой статье Сталин возлагал ответственность за полную дезорганизацию сельскохозяйственного производства на местное руководство.
[24] Имеется в виду постановление ЦК от 14 марта «О борьбе против искривления партлинии в колхозном движении».
[25] Базаров (наст. фам.- Руднев В. А., 1874–1939) — философ, экономист.
[26] В. С. Трубецкой (1890–1937) — зять В. М. Голицына, также живший в Сергиевом Посаде, товарищ Пришвина по охоте.
[27] Н. В. Крыленко (1885–1938) — работал председателем Верховного революционного трибунала ВЦИК, заместителем наркома юстиции, прокурором Республики, а с 1931 г. — наркомом юстиции.
[28] Продолжение пришвинских дневников 1930 года см. в следующем номере «ОЗ». — Прим. ред.
