Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Пять парадоксов российского консерватизма
Нереальная возможность или невозможная реальность?
В вековом споре о том, что является ключом к пониманию России, постоянно
повторяется одна и та же методологическая ошибка. Россию пытаются идентифицировать то как аутентично православную цивилизацию, то как некое воплощение коммунистической левизны, то как амальгаму «европейской» и «азиатской» цивилизаций. Основной недостаток всех этих попыток заключается в том,
что они представляют собой процедуру наложения на исторический субъект —
«Россию» — содержательных и при этом импортированных определений. Процедура основывается на презумпции отсутствия имманентной содержательности
определяемого субъекта. Ошибка процедуры дает некорректный результат: познание России действительно превратилось в «бесконечный тупик»[1], в котором
толкутся и сталкиваются все те же взаимоисключающие версии.
Выход из тупика очевиден — коль скоро в него ведет «содержательность» как
таковая, то стоит попробовать иной путь. Не импортировать идентифицирующие
определения, а проследить, как идентичность складывается изнутри. Но при
этом действуя, опять-таки, не посредством содержательных определений, а пытаясь найти некий формообразующий механизм, своего рода алгоритм воспроизводства России в историческом процессе.
В этом поиске необходимо ввести временные ограничения. Я не готов строить
дискурс о «тысячелетней России» и искать ее универсальную трансисторическую
(«предвечную») идентичность. Мне представляется, что о российской идентичности можно рассуждать с некоторой основательностью только на материале новой
истории, т. е. анализируя период с начала XVII века — время выхода из прежней
автаркии, активной вестернизации и, как следствие, всесторонней модернизации.
В этом процессе можно a priori предположить наличие «сил сопротивления», которые находят новое воплощение на каждом очередном этапе модернизационного процесса. Не важно, как они назывались. Важно то, что именно в этих силах сопротивления рельефнее всего и выявлялась искомая российская идентичность.
И опять: здесь важно не конкретное проявление сопротивления модернизации
в данный момент, а сопротивление как таковое. Как бессодержательная форма,
готовая принять все, что удерживает идентичность. Как нечто самовоспроизводящееся и потому образующее константу российской идентичности.
На мой взгляд, консерватизм как общие скобки для «сил сопротивления»
и есть ключ к пониманию России: ее исторической судьбы, ее способа движения в истории и, как это ни парадоксально, — ее будущего. От консерватизма обычно менее всего ожидают забот о будущем. Но, на мой взгляд, — и это вводный парадокс — будущее России сегодня определяется тем, каким будет российский
консерватизм. И насколько эффективно этот консерватизм, сложившийся партийно, осмысленный идеологически, действительно заработает в политическом
процессе в ближайшем будущем.
Этот парадокс служит естественным введением в тему, поскольку сам объект
размышления представляет собой набор парадоксов. Парадоксальность, т. е.
«возлесмыслие» российского консерватизма, предполагает нечто, воплощающее
аутентичный смысл. Действительно, в ходе анализа в качестве такой «аутентичности» мне придется привлекать в определенном смысле «образцовый» западноевропейский консерватизм.
1
При взгляде на российский консерватизм в длительной исторической ретроспективе (начиная, скажем, с Карамзина и по сегодняшний день) легко заметить, что
консерватизм в России — это традиционно устремленность к власти. Разумеется,
всякая политическая сила потому и политическая, что предметом ее действий
и целью ее деятельности является власть. Но этот общетеоретический принцип
в применении к российским консерваторам обычно прочитывается следующим
образом: быть как можно ближе к власти[2]. Казалось бы, это настолько нормально и настолько по-британски, что невольно вспоминается Бенджамин Дизраэли
и его знаменитое определение партии тори (британских консерваторов) как
«партии, естественным образом правящей». Однако применительно к России
это определение Дизраэли оказывается неработающим.
Дизраэли имел в виду всю традицию неписаной Британской конституции.
А в этой традиции партия, которая старше тех устоев (институтов), которые она
защищает и поддерживает, оказывается первее, ближе к первоначалу — к принципу правления. То есть ее претензия на власть оказывается «естественнее». Скажем, современники Дизраэли и его оппоненты (уже не классические виги эпохи
Эдмунда Бёрка, а их наследники, «новые виги»), британские либералы XIX века,
были менее «естественной» партией власти, потому что это была партия реформ.
На мой взгляд, эта игра, эта динамика понятий и это смысловое богатство
термина «естественная партия власти» по отношению к российским консерваторам не применимы в силу следующего обстоятельства. В России с середины XVII века[3] начинает действовать очень своеобразный механизм, характерный
для подавляющего большинства стран и регионов, за исключением Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Особенность его в том, что главным
действующим лицом модернизации, т. е. тотальной социальной, экономической,
политической и религиозной реформ является по большей части, а в российском
случае можно сказать исключительно — «власть».
Поэтому первый парадокс нашего консерватизма заключается в следующем.
Российские консерваторы, будучи особым, «интимным» образом приближены
к власти или стараясь «интимным» образом приблизиться к ней всегда и при любых обстоятельствах[4], на самом деле выступали апологетами реформистской и даже в некоторых случаях радикал-революционной власти.
Знаменитое герценовское определение Петра Великого — «революционер на
троне» — приложимо практически ко всем российским императорам. Петровское время может показаться исключительным и нетипичным. Но если приглядеться повнимательнее даже к самым благополучным и спокойным временам
российской истории, например периоду правления императрицы Екатерины Великой, нельзя не поразиться грандиозности институциональных реформ, которые она предлагала и довольно настойчиво пыталась проводить в жизнь. Я имею
в виду даже не молодую Екатерину, которая в 1760-е годы только еще осваивалась
после убийства собственного мужа императора Петра III, должна была тратить
много усилий, дабы вознаградить тех, кто стал на ее сторону, и российское дворянство в целом. Если внимательно присмотеться к деяниям «поздней» Екатерины — 80-х или даже 90-х годов, то и здесь мы видим, как активно и последовательно вводился новый институциональный дизайн, или порядок устройства. Не
власти (от этого Екатерина, в общем-то, достаточно мудро оберегала свой трон,
поэтому-то А. Н. Радищеву и досталось ее определение — «бунтовщик хуже Пугачева»), а всего социума. Знаменитая реформа городского устроения, введение
различных разрядов горожан и т. д. и т. п. То есть весь русский быт, вся русская
жизнь — и сельская, и городская — подвергались основательному реформированию, даже более радикальному (эффективному или нет — другой вопрос), нежели в любое послепетровское царствование. Впрочем, радикализм реформ во времена самодержавия Романовых проявлялся в самом факте постоянного
реформирования.
В России этот феномен радикально реформирующей власти — явление постоянное. Совсем недавно, во времена «перестройки», с легкой руки Натана Эйдельмана, стали говорить о «революциях сверху». Это и есть реальность российской модернизации: власть как перводвигатель и постоянный движитель. Она не
первотолчок — в европейском, так сказать, «деистическом» смысле. В российском случае торжествует буквально и последовательно «креационистская» логика: власть воспринимается как «видимая» рука Бога и Царя, которая действует
беспрерывно и повсюду.
Кульминация этого политического «креационизма» наблюдается в царствование Николая I. Тогда вообще ничто не могло двинуться без разрешения императора. Каралось не инакомыслие, каралось само помышление о действии, независимом от государя. Инакомыслия как такового не было. В этом смысле
методологически неточно рассматривать Николаевскую эпоху как аналог наших
страшных тридцатых годов. Николай утверждал свое исключительное право на
действие, на любые реформы, Сталин же уничтожал конкурентов, предлагавших
иные (в пределе — альтернативные, как было в случае Троцкого) проекты развития страны.
Для Николая не существовало принципа инакомыслия как такового. Он готов был принять все с одним ограничением — нельзя было предлагать то, что покушалось на принцип самодержавия, будь то конституция или заговор. Это очень важный момент в первом парадоксе, открывающем целую анфиладу парадоксов,
связанных с российским консерватизмом. Российские консерваторы уповают на
власть, пребывающую в беспрерывном реформировании, и интуитивно оказываются правы в этом выборе. Ибо получается, что именно такая власть в России
и есть — парадоксальным образом — единственный стабильный институт.
Из этого понимания и родилась знаменитая карамзинская записка 1811 года
«О древней и новой России…». В ней выражена основная идея русского консервативного мировоззрения — не трогать ни в коем случае саму власть в той форме,
в которой она исторически сложилась, т. е. в форме неограниченной монархии.
Характерно, что это предупреждение обращено напрямую к самому самодержцу,
в котором Карамзин усматривает мудрую силу, способную если не «обустраивать», то, во всяком случае, «оберегать» Россию.

Эта традиция российского консерватизма полагаться на самодержавную
и, в то же время, реформаторскую власть есть то, что в принципе невозможно для
консерватора на Западе. Отчасти потому, что сама природа западной власти иная.
Отчасти по иным причинам. Сравнительное исследование на эту тему имело бы
самостоятельную ценность, но в рамках этой статьи мне хотелось бы обосновать
релевантность наблюдений относительно российского консерватизма, сделанных в XIX веке, по отношению к нашему, постсоветскому времени.
Наша страна переживает превращение в нечто современное — с иной культурой, экономикой, государством, обществом. Модернизация, начавшаяся 350 лет назад, продолжается и самим фактом своего продолжения превращает нашу историю последних трех веков в относительно гомогенное явление. Эта
гомогенность должна распространяться и на консервативную «традицию»[5]
в России. Вспомним, что происходило с нашими так называемыми консерваторами последнего десятилетия истекшего XX века. В 1993 году создается «Российская партия единства и согласия» во главе с одним из ельцинских фаворитов, вице-премьером Сергеем Шахраем. Эта партия позиционирует себя как консервативная[6] и с нуля набирает около семи процентов голосов избирателей. Через два года Шахрай теряет свои позиции «при дворе» и после выборов 1995 года партия ПРЕС исчезает с российской политической сцены.
Но тогда же, в 1995 году, возник «Наш дом — Россия», на этот раз уже во главе
с премьер-министром Виктором Черномырдиным, с очередной консервативной
платформой. Чем все кончилось в 1999 году — тоже известно. Ни НДР, ни Виктора
Черномырдина как лидера российского консерватизма, ни Владимира Рыжкова как
главного идеолога российского консерватизма… Зато организовалось «Единство»,
в программе которого в разделе «Политический манифест» прямо провозглашается:
«Мы — за стабильность, консерватизм, за поступательное, эволюционное развитие».
Эта эстафета «партий власти» последнего десятилетия ясно и четко иллюстрирует самую фундаментальную особенность российского консерватизма —
его первый парадокс: консерваторы постоянно тяготеют к власти, которая непрерывно Россию реформирует, ибо всякая остановка на пути реформаторства,
модернизации (т. е. обновления) не просто останавливает страну, но отбрасывает ее назад. Россия уже почти четыре века как бы «соревнуется» с Западом, ее
элита постоянно сопоставляет свою страну со странами «передовыми», «развитыми», «прогрессивными», «цивилизованными» (набор определений можно
продолжить). Прессинг перемен неотступен, и бремя перемен вынуждена брать
на себя власть.
Консерватизм в России не может повторять западный путь, поскольку механизм модернизации Запада иной. Ведь это не Запад «ориентализировался», а весь
евразийский континент вестернизировался, и продолжается это до сих пор. Западный консерватизм (британский в особенности) всегда успевал перекрыть дорогу
чересчур радикальным проектам реформ, становясь либо «правящей партией», либо «оппозицией Ее Величества», способной, по крайней мере, основательно смягчить любой радикализм. Российский консерватизм, пытаясь работать в жанре «сил
сопротивления» радикальным (и не очень) переменам, был вынужден поддерживать власть, являвшуюся источником всяких перемен.
2
Из этого вытекает второй парадокс российского консерватизма, для лучшего понимания которого стоит вернуться в XVI век. До начала модернизации существовало
единое самосознание Московской Руси — все верили и думали, можно сказать,
одинаково. Самосознание в Московской Руси выстраивалось в противостоянии
католической «латинской ереси» на фоне упадка Византии и торжества наступающего ислама. И никак иначе, кроме как самосознание богоспасаемого царства, или
третьего Рима, московское самосознание сложиться не могло. Это было нормально, естественно и правильно. Было бы дико, неестественно и неправильно, если бы
люди, видящие, что все вокруг гибнет и покоряется иноверцам и что лишь православная Москва живет и процветает, — чтобы эти люди не были преданы своей вере, которая спасает и охраняет их.
Но после раскола, после покушения на сакральную суть Московской Руси —
ее церковные ритуалы, российский консерватизм неизбежно оказывался в тени
консерватизма западного. Говоря о консерватизме применительно к той ситуации, я не имею в виду раскольников-старообрядцев. Случай тотального ухода и тотального протеста русских раскольников во главе с протопопом Аввакумом
представляет собой одну из разновидностей контркультурных движений, ориентированных на полный разрыв с государством и властью. Но в сохраняемой, сохранившейся России тот консерватизм, который только и мог появиться, обязательно выступал в тени консерватизма западного. Я не буду вдаваться в споры
о том, как следует понимать консерватизм. Как некую вечную мыслительную
и практическую установку, которую можно найти везде — от Конфуция и Будды
до майя, ацтеков и сегодняшней России. Или как специфическое новоевропейское явление, вызванное событиями французской революции 1789 года.
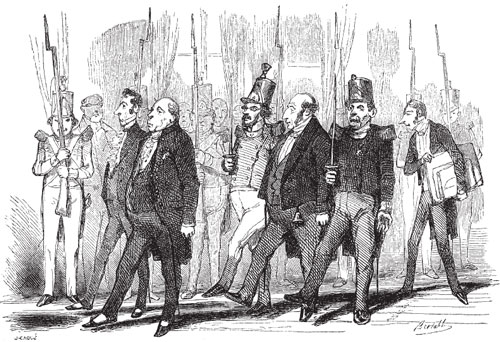
Я лишь отмечу, что расцвет европейского консерватизма пришелся на постреволюционную эпоху — конец XVIII, начало и вторую половину XIX веков.
В это время (в 1790 году) Эдмунд Бёрк пишет свою знаменитую книгу «Размышления о революции во Франции», а затем (в 1796–1797 годах) — незаконченный
цикл «Писем о мире с цареубийцами». В это же время появляются работы Жозефа де Местра (подданного Савойского княжества, посланника королевства Сардинии в Петербурге). Конец XVIII века — это утверждение американской версии
консерватизма, зафиксированной в сборнике «The Federalist papers», а затем
и в самой Конституции Соединенных Штатов. Каково же отличие западного
консерватизма от российского и что парадоксального здесь можно найти?
Европейский консерватизм — это достаточно ясный ответ на то, что часть европейского общества сотворила с традиционной европейской властью (так называемым «старым режимом»). Ответ определенных социальных групп, которые
выделяет Карл Манхейм в своем эссе «Консервативная мысль». Это — феодальная знать, крестьянские слои, часть горожан, ранее принадлежавших традиционному цеховому корпоративному устройству и потерявшихся в новом мире. Каждая из этих групп в консерватизме находит интеллектуальный, политический,
идеологический и психологический ответ на деяния нового политического актора — третьего сословия. Эдмунд Бёрк дал этим группам свое название — средние классы. Это не тот middle class, который сегодня существует в Америке, и не тот
«средний класс», об отсутствии которого столь много говорят сегодня в России, — это именно средние классы, иначе говоря, различные общественные
группы, стоящие между «знатью» и «чернью».
Социальные слои и группы, пострадавшие в результате действий третьего сословия, или средних классов, и сформулировали, по мнению Манхейма, свой ответ в виде консерватизма. Динамика этого процесса такова: средние классы атакуют власть, захватывают ее или модифицируют, или формулируют свои
претензии в отношении власти. А другая часть общества борется с этими группами за свое право быть у власти или за свое право на определенный образ власти.
Борьба между социальными группами по поводу образа власти и типа власти —
вот ситуация, в которой расцветает европейский консерватизм. Ее можно описать как игру (борьбу) общественных сил, из которой, как конечный результат,
рождается власть.
В России же все происходит совершенно иначе. Не часть общества атакует
власть, захватывает ее и превращает в инструмент реализации собственных интересов, соотносимых с интересами других общественных групп, а власть сама избирает участки общества, в которые вторгается, модифицирует, реформирует,
а иногда и просто уничтожает. Примером может служить длительная, бессмысленная, бесплодная и вредная борьба самодержавия с расколом. Говоря выразительным современным жаргоном, российская власть только и делает, что периодически «наезжает» на определенную часть общества либо на общество в целом.
Что же выпадает на долю российских консерваторов в этой ситуации? Увы, они
должны поддерживать власть в ее реформаторской «войне» с «обществом». Кажется, именно к этому в конце концов пришел Пушкин, назвавший правительство
(не николаевское, но вообще российское) «единственным европейцем в России».
Таким образом, получается второй парадокс. Консерваторы, интимно связанные с властью, для которых «государственничество» должно бы быть имманентным способом самоопределения, в России оказываются апологетами государства, в своей основе противоположного западному. Европейское государство — это
пространство, на котором представлены различные корпоративные интересы, за
которое борются различные социальные группы. Публичное пространство — вот
что такое европейское государство. И в рамках этой публичной борьбы за власть
европейский консерватор оказывается «естественным» консерватором в том
смысле, что он всегда за медленное, спокойное, органичное реформирование[7].
В России же государство выстраивает себя не как публичное пространство,
в котором представлены все общественные интересы, а как некий уникальный
институт, введенный императором Петром Великим, — институт бюрократии.
Система управления «обществом» посредством российской бюрократии (а если
правильно переводить — столоначальничества) и представляла собой русское государство. Конечно, ничего российско-самобытного в институте бюрократии
нет. Это — западное изобретение, взятое Петром из практики управления королевством Швеция. Но, при наличии собственной бюрократии, европейские консерваторы в лице Гегеля выработали свой ответ на деяния третьего сословия и на
идеал республики. Согласно Гегелю, конституционная монархия, т. е. представительное правление, есть идеальная форма государства. А государство есть торжество нравственной идеи на земле. Значит, нравственная идея на земле должна являться в форме конституционной монархии. И это точный консервативный ответ
на французскую революцию: провозглашение идеала представительного правления с монархом во главе.
Но как этот идеал государственного устройства мог быть внедрен в российский
контекст? Российское государство не строилось как публичное пространство, и поэтому в нем не представительствовали сословия и корпорации для того, чтобы выразить свои интересы и добиваться от государя их сбалансирования. Эта сбалансированность вообще может быть лишь временной — сегодня одна партия у власти,
завтра другая. Поэтому власть нуждается в двухпартийной (как минимум) системе.
А российское государство строится как представительство себя, своей собственной
(самодержавной) власти, в лице корпуса столоначальников, перед народом.

Строго говоря, исторически у нас было, есть и остается представительное
правление. Чиновники представляют власть перед народом. Не представительный орган, как это устроено в Европе, представляет народ перед высшей властью
короля (или президента), а чиновники от имени верховной власти, прикрываясь
ее авторитетом, представительствуют эту власть перед народом. Тогда и возникает вопрос: а что же в этой ситуации делать российскому консерватору, если он
до конца и полностью не отожествляет себя с чиновничеством? Если такого
отождествления не происходит, то российский консерватор парадоксальным образом превращается в диссидента.
Вся трагедия российского консерватизма XIX и начала XX века выражается в его
беспрерывном девиантном поведении. Консерваторы превращались в инакомыслящих, потому что основное недовольство российских консерваторов направлялось именно на неэффективную или чересчур «реформаторскую» бюрократию. Ведь Карамзин свою вышеупомянутую «Записку» написал против М. М. Сперанского —
высшего чиновника при Александре, секретаря Государственного совета, проект
которого Сперанский разработал и воплотил в жизнь в 1810 году. Уже этот пример
красноречив: Карамзин, отец-основатель российского консерватизма, бьет в самое
сердце власти! И успешно. Он добился того, что Сперанский попал в опалу, хотя
и избежал более сурового наказания. Карьера бюрократа-реформатора при Александре I оказалась сломанной, а вместе с ней не состоялась и та позитивная реформа российского чиновничества, которую планировал осуществить Сперанский.
И весь XIX век прошел в этой контрпродуктивной борьбе. Государство в лице чиновников пыталось реформировать общество, а русские консерваторы в лице своих
самых выдающихся представителей (таких как Константин Леонтьев, Федор Достоевский, Лев Тихомиров) пытались одновременно и встать на сторону «власти» против «либералов», и обличить эту же самую власть за ее оторванность от русской жизни. Читая русских консерваторов, мы обнаруживаем одно и то же: беспрерывное
сожаление по поводу либо нерусской политики русских чиновников, либо вообще их
непонимания, что такое Россия. Либо указания на вредоносные последствия самого
существования чиновничества как «стены», отделяющей государя от народа.
Вот в этом и заключается парадокс. Западноевропейский консерватор — это
естественный, так сказать, государственник лишь потому, что может существовать только в государстве. Только через государство, в этом публичном пространстве он представляет свои интересы и умело отстаивает их, оказываясь
у власти чаще (например, в Британии), чем остальные партии. Ибо государство — его стихия. А что делать русскому консерватору, который в этой ситуации
модернизирующего, реформирующего и атакующего общество государства вынужден проклинать государственную систему, стержень которой — чиновничий
аппарат?!
Этот трагизм российского консерватизма великолепно выразил Александр
Герцен еще в 1867 году. Он написал тогда: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Даже самое слово это не существовало до освобождения крестьян. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику,
или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами,
ибо нам нечего хранить. Разностильное здание, без архитектора, без единства,
без корней, без принципов, разнородное и полное противоречий. Гражданский
лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь реакции и революции, готовая и продолжаться долго и назавтра же превратиться
в развалины»[8].
3
Третий парадокс, характеризующий российский консерватизм, следует из первых
двух. Здесь необходимо обратиться к знаменитому определению консерватизма
как «институциональной идеологии»[9]. Институты, говоря по-русски, есть некие
установления, договоры, договоренности и оформляющие эти договоренности
учреждения — набор правил, иерархия тех, кто эти правила соблюдает и защищает. Можно сказать так: институты — это способы взаимодействия людей, освоенные ими самими. Знаменитый пример — не нужно прокладывать асфальтовые
дорожки в парке, пока вы не увидите, как люди ходят ближайшим и удобным для
них путем.
Консерватизм и есть идеология, функция которой защищать эти естественно, органично, путем свободного взаимодействия людей сложившиеся институты. То есть, говоря бытовым языком, защищать удобства человеческой
жизни. Это естественное, органичное вырастание институтов есть предпосылка возникновения консервативной идеологии, без чего никакого консерватизма в принципе не может быть. Карамзин дает самый краткий и самый
консервативный ответ на вопрос, почему нужно защищать институты. Потому что они существуют давно. Хорош порядок не потому, что он хорош умозрительно и кто-то постоянно доказывает это, а потому, что никто не сомневается в нем.
Кстати, в русском слове «порядок» заложена некая предыстория свободного
выбора и соглашения. Ведь договор по-русски еще обозначался словом «ряд» (отсюда и «рядиться», т. е. разговаривать, обсуждать). Это не руссоистский умозрительный договор, заключенный между абстрактными — свободными и наделенными благой человеческой природой — людьми, а некий «ряд» о чем-то
конкретном: жить вот так, ходить этим путем, и не более того. Тайная сила порядка и крепость институтов в том и состоит, что так заведено, так положено, так принято и никем это не подвергается сомнению. Единственная легитимность,
т. е. общепринятость, бесспорность существующего — это его давность. И более — с точки зрения консерватора — ничего.
Но если это так, то возникает вопрос, о какой давности существующего, о какой институциональной основе консерватизма в России можно говорить, если
мы знаем, что задача власти здесь — беспрерывное изменение? Причем чем глубже, тем лучше, чем тотальнее, тем эффективнее. Институты не успевают складываться, институты есть то, что проектируется и внедряется каждый раз заново,
это придумываемое и учреждаемое «властью» нечто, называющееся «учреждением», т. е. корпус чиновников. При таком раскладе русский консерватизм как
институциональная идеология, защищающая русскую общественную жизнь,
сложившуюся так, как ей удобно, — принципиально невозможен.
В этом третьем парадоксе содержится указание на тесную связь проблемы российского консерватизма и проблемы будущего. Сравним нашу ситуацию с западной. Запад имеет отлаженный и понятный механизм формирования консервативной идеологии, консервативной партии и не нуждается в том, чтобы под новые
выборы создавать новый НДР. Напрашивается вывод, что основой стабильности
Запада и секретом его силы по отношению к остальным культурам является именно это: Запад — единственная культура, которая сумела внутри себя выработать
консерватизм как постоянно действующую силу. Сила Запада в том, что он консервативен. И тогда другие политические идеологии, которые подвергают существующий порядок сомнению (степень сомнения важна, именно она создает либерализм, социализм, фашизм, коммунизм, анархизм), можно понять как временные
отходы от консервативной установки на удержание порядка. Все это можно описать и как реализацию свободы, заложенной в западном типе политии, как жизнеобеспечивающую флуктуацию — освобождение нового пространства для новых
политических масс.
Так происходит естественная демократизация общества. Не государства, не
чиновничества, а именно общества. Например, движение суфражисток, борющихся за право голоса для женщин. Появляется новый контингент имеющих
право участвовать в выборах власти, и именно это называется демократией. Запад демократизируется постепенно, как бы допуская мутацию своих устоев (институтов). И такие «допуски» — либерализация, социализация и в каком-то
смысле даже анархизация — есть просто контролируемые флуктуации исходного
консервативного ядра.
Для большей наглядности можно использовать такую метафору. Всякий организм болеет, даже сам по себе рост можно рассматривать как болезнь. Но и здоровый, уже выросший организм болеет. Либерализм, социализм и анархизм для
Запада — это просто некие простуды. Запад консервативным был, есть и будет,
пока он Запад. Он просто периодически «чихает». Но когда Запад «чихает» либерализмом, социализмом и анархизмом, весь остальной мир загибается от революционной «чахотки», потому что у него нет консервативного иммунитета. Либерализм воспринимают всерьез, как последнее прозрение в сущность
человеческого сообщества. Социализм — как «руководство к действию». А коммунизм (он же анархизм) — как обещание «рая на земле». Чего только стоит беспрерывная квазиинтеллектуальная толкотня вокруг понятия «гражданское общество» как некой альтернативы власти и государству?[10]
Это, на мой взгляд, и есть третий парадокс. Консерватизм в России как институциональная идеология, как идеология, нацеленная на охранение устое, —
невозможен. Власть, ориентированная на постоянное пересоздание «устоев»
(или, как в царствование последнего государя из династии Романовых, —
на охранение фантомов), можно сказать, «обесточивает» российский консерватизм, лишает его творческой (ибо сохранение требует большего творчества,
нежели «социальное изобретательство») энергетики. И даже — социальной
почвы.
Это обстоятельство проницательно отметил еще в 1912 году С. Н. Булгаков. Наблюдая выборы в Государственную думу в одной из российских губерний, он писал: «Величайшее несчастье русской политической жизни, что
в ней нет и не может образоваться подлинного («английского») консерватизма: таким мог бы сделаться настоящий, не каучуковый, но идейный октябризм, и явный провал октябризма, которому многие теперь радуются, есть ясный симптом, что для октябризма еще недозрела наша политическая культура, которая предъявляет спрос только или на сервильность, или слепой революционизм»[11].
4
Теперь можно перейти к четвертому парадоксу. И здесь важно припомнить тонкое различение, которое проводит Манхейм между консерватизмом и традиционализмом. При этом существенно то, что без традиционализма консерватизм невозможен. Нет фатальной предопределенности превращения традиционализма
(даже на Западе) в консервативную политическую идеологию, но этот латентный
традиционализм как условие превращения должен присутствовать в самой социальной ткани.
Исследуем с этой точки зрения традиционализм в русском модернизирующемся социуме. Традиционализм означает веру в то, что основой бытия является мой «малый мир», мое маленькое пространство, моя семья, мой дом, моя
улица, — то, что по-английски называется “neighborhood”, а по-русски «соседство», «ближайшая округа». Этот маленький мир, который создается моим трудом, который есть моя собственность, в британском варианте выступает как
«моя крепость».
У нас в России есть понятие «малой родины». Вот эта малая родина и есть
питательная почва для традиционализма. Но в нашем российском политическом пространстве она постоянно подвергается нашествию различных тотальных мегапроектов. Ведь власть в России (до сих пор не ставшая тем публичным
пространством, где договариваются общественные, а не исключительно частные интересы) постоянно вынуждена оправдывать себя в глазах общества с помощью различных «великих починов» (например, «Москва — третий Рим» —
в XV–XVI веках). Не случайно Петр Великий играл с идеей «Москва — первый
Рим» (только настоящий Рим, не католический), а через 150 лет после этого
Константин Леонтьев развивал теорию «Москва — второй Рим» (т. е. Византия). Вообще все подобные «тотальные» замыслы — «русская идея», панславизм
Данилевского, евразийство — те же мегапроекты, которым вынужден подчиняться мой маленький мир.
И если мне — простому человеку — скажут: твой огород стоит на пути создания славянского братства, то я, наверное, первый отвечу — да гори он огнем! Или
если мне скажут: твоя деревня (как у Распутина) мешает прогрессу, вот сейчас мы
будем строить плотину, она даст много «лампочек Ильича», но деревню придется
затопить. «Ну, так и слава Богу» — таковым окажется самый типичный (а не распутинский) ответ.
Парадокс четвертый, на мой взгляд, состоит в следующем: западный консерватизм имеет питательный «гумус», почву в виде традиционализма —
защищенности частного, приватного пространства, которое западный человек никому не отдаст. В крайнем случае, продаст за хорошие деньги. Ему
скажут: здесь должна пройти дорога. Он ответит: хорошо, миллион долларов — и я вам этот участок продаю. Но за этот миллион долларов он купит себе то, что он хочет, т. е. опять устроит свой малый мир. Его бульдозером никто
не свернет.
В нашей ситуации мы имеем нечто другое. То, что можно обозначить как «нетрадиционалистский традиционализм», т. е. готовность всегда отказаться от своего мира ради чьего-то другого. Интеллигентский вариант этого отношения превосходно передает знаменитая скульптура Паоло Трубецкого «Не от мира сего»,
а бытовой мещанский — блестяще обрисован в романе Федора Сологуба «Мелкий бес». Ардалион Борисович Передонов есть совершенное воплощение этой
пустоты на месте своего «малого мира». Его жизнь вся целиком в быту, а реально — «без быта». Чужой дом, в котором кроме «недотыкомки» больше ничего
и нет. Этот нетрадиционалистский традиционализм перекрывает все пути роста
русскому консерватизму как политическому движению, как идеологии, как философии политики. Ему просто нечем питаться: наверху беспрерывно «проектирующая» власть, а внизу — безбытность. В такой ситуации не мог не сложиться
«Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова.
Уже через год после большевистского октябрьского переворота это вполне
осознал Николай Бердяев. Никогда не причислявший себя к консерваторам, он,
тем не менее, написал: «Несчастна судьба той страны, в которой нет здорового
консерватизма, заложенного в самом народе (т. е. того самого «традиционализма». — Л. П.), нет верности, нет связи с предками. Несчастлив удел народа, который не любит своей истории и хочет начать ее с начала. Так несчастлива судьба
нашей страны и нашего народа. Если консерватизм существует лишь у власти,
оторванной от народа и противоположной народу, в самом же народе его нет, то
все развитие народа делается болезненным»[12].
5
И последний, пятый парадокс, заключающийся в самом вопросе: возможны ли
были настоящие консерваторы в радикально менявшейся в 90-е годы ХХ века
России? На мой взгляд, такая возможность действительно реализовалась. Но если это не три издания «партии власти», то кто они?
На статус действительных российских консерваторов минувшей декады есть
три претендента. Один — это КПРФ. Интерпретацию российских коммунистов
как консерваторов еще в 1995 году выдвинул и изобретательно аргументировал
Б. Г. Капустин в докладе «Левый консерватизм КПРФ и его роль в современной
политике»[13]. Есть еще один претендент. Это Александр Дугин, плодовитый автор,
определяющий себя как «традиционалиста», «евразийца» и «консервативного революционера».
По моему мнению, настоящими консерваторами в 90-е годы в России оказались
именно те, кто задумал и осуществил радикальную декоммунизацию и десоветизацию. В 1991 году Россия вышла из СССР географически, а в 1993 году политически,
отменив реставрированный Михаилом Горбачевым раннебольшевистский институт — «Съезд народных депутатов», венчавший всю многоуровневую систему «Советов». Этих людей сначала восторженно, а затем ругательно называли (и называют
даже сейчас) «демократами». Сами себя они, как правило, идентифицируют в качестве «либералов». Но реально, т. е. функционально, в политическом пространстве
они действовали именно как консерваторы. Наверное, это прозвучит как самый парадоксальный парадокс, но аутентичными консерваторами в России являются (пока) Егор Гайдар, Анатолий Чубайс и Сергей Кириенко, олицетворяющие собой российское реформаторство. В пользу моего тезиса я приведу только три самых серьезных аргумента.
Во-первых, только эти люди и связанные с ними политические группы (независимо от их самоопределения) на самом деле защищали и защищают те институты, которые сложились в результате самодеятельности народа за последние 10 лет. Последние 10 лет государство фактически бросило свой народ. Слово
«бросило» здесь имеет по крайней мере два смысла. Государство многократно
«кидало» свой «народ» (не важно, так это или нет, важно, что сам «народ» поголовно в этом убежден) и государство бросило свой «народ» почти «на произвол
судьбы» (опять же единственный критерий — точка зрения самого «народа»).
В итоге российские реформаторы, убрав «советское государство», создали уникальную ситуацию.
Оказалось, что последние 10 лет российской модернизации — это чуть ли не
единственное время, когда народ делал все, что хотел. И выбирал кого хотел.
И при этом не устраивал революцию. «Народ» повел себя консервативно в основном потому, что «власть» начала возвращать то, что делает любого человека консервативным — свободу и собственность. Два дара — право свободно уехать из
страны и право на бесплатную приватизацию жилья — действительно совершили
«консервативную революцию», но совершенно не в веймарско-дугинском смысле. В россиянах именно благодаря деятельности ненавистных «реформаторов» во
главе с самым ненавистным Борисом Ельциным стал зарождаться протоконсервативный традиционализм. На фоне зияющей пустоты, оставленной рухнувшими ценностями советско-имперского гигантизма, постепенно начала обозначаться ценность «своего», т. е. «малого мира». Постсоветские россияне все
меньше ощущают себя «сиротами империи» и все больше стараются обживать
свой собственный «мир». Обустраивая себя, свои квартиры и дачи (а с принятием Земельного кодекса дачные участки превратились в полноценную частную
собственность), они как раз и «обустраивают Россию». Во многом не так, как
мечталось в 1990 году «вермонтскому отшельнику» Александру Солженицыну.
Но зато так, как умеют.
Во-вторых. Российские реформаторы сознательно провозгласили (и старательно этому принципу следуют) лимитирование государства. Тезис о маленьком, ограниченном государстве — это фирменный знак команды Гайдара с ноября 1991 года. Такой курс был избран сознательно и проводился (в тех случаях,
когда реформаторы действительно могли что-то решать) последовательно. Это
значит, что только эта группа политических деятелей, возможно, понимает, что
«тайная» сила Запада заключается именно в его консерватизме. То есть в устроении государства как площадки соревнующихся корпоративных интересов, как
публичного пространства, а не как корпорации чиновников, которые монополизируют право на самодеятельность народа своими регистрирующими, лицензирующими, контролирующими и всеми прочими «органами».
А отсюда — третий аргумент. Что означает «350 лет российской модернизации»? 350 лет российской модернизации — с Алексея Михайловича до Владимира Владимировича — означают только одно: что мы, россияне, отчасти насильственно, отчасти бессознательно или неохотно, все же получили свою современную
историю. Мы — европейцы. Новая и, тем более, новейшая история есть только
у Европы и у тех стран, которые пошли по ее пути. Потому что модернизация проходила как вестернизация и как европеизация. И никак иначе она не могла происходить. Вот этот эмпирический факт, что мы — европейцы, и означает, что никакой иной живой, развивающейся традиции у нас в России просто-напросто нет.
И быть консерватором в России значит воспринять наш «европеизм» как исторический факт, если угодно — как судьбу и единственно надежную традицию. Тогда
нет нужды мучиться неразрешимым вопросом, как нам вычеркнуть 70 лет «коммунистической тирании». Или, наоборот, как соединить царскую и советскую
России. Для настоящего консерватора нет вопроса о прошлом как экспериментальной (пусть хотя бы только ментальной) площадке. Оно неотменяемо есть,
и вопрос лишь в том, как в сегодняшнем настоящем обеспечить спонтанное и органичное развитие страны в будущее. Наверное — не за счет отмены 350 лет российской европеизации.
Вообще нет ничего парадоксального в том, что в российском обществе, столь
долго существовавшем без аутентичного консерватизма, осознание консервативного смысла реформаторства 90-х годов крайне затруднено. Особенно учитывая то
обстоятельство, что некоторые прозвища реформаторов (например, «необольшевики»), данные их оппонентами в полемическом задоре, сделались устойчивыми
клише. Но самый удивительный парадокс заключается в том, что «консервативная
волна», поднятая в 70-е британскими тори, усиленная в 80-е американскими «неоконсерваторами», в 90-е накрыла рубежи советской империи, освободив простор
для российского консерватизма. Этот последний обязан числить своими родителями Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. И эта пара кажется более естественной,
нежели Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
[1] Эта метафора Дмитрия Галковского представляется мне предельно точным прозаическим
эквивалентом поэтической формулы — «умом Россию не понять…».
[2] Сегодняшнее наше, неслыханное никогда и нигде до 1993 года, определение «партия власти»,
на мой взгляд, предельно точно выражает эту основную интенцию российского
консерватизма.
[3] На мой взгляд, именно с середины XVII века начинается российская модернизация, т. е.
превращение архаичной Руси, Московской Руси в современную культуру, или цивилизацию,
или в современное государство — медленный, шедший более трех с половиной веков,
процесс. Подробнее см.: Поляков Л. В. Путь России в Современность: модернизация как
деархаизация. М.: ИФРАН, 1988.
[4] И даже выступая безоговорочными апологетами принципиально неограниченной
самодержавной власти, как это было в случае с Карамзиным.
[5] Беру это слово в кавычки, поскольку, по справедливому замечанию С. Хантингтона,
у консерватизма как политической идеологии парадоксальным образом нет собственной
традиции.
[6] Политолог Вячеслав Никонов опубликовал тогда первый манифест российских
консерваторов.
[7] Ср. знаменитое положение Э. Бёрка: «То государство не имеет средств к сохранению, которое
не имеет средств к изменению».
[8] Герцен А. И. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 523.
[9] См: Samuel P. Huntington. Conservatism as an Ideology // The American Political Science
Review. 1957. № 51.
[10] Подробнее см.: Поляков Л. В. Парадокс гражданского общества в России // Кто и куда
стремится вести Россию?.. М.: МВШСЭН, 2001. С. 139–145.
[11] Булгаков С. Н. На выборах. Из дневника (1912 г.). С. Н. Булгаков. Христианский социализм.
Новосибирск, 1992. С. 196.
[12] Бердяев Н. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С. 122.
[13] См.: Капустин Б. Г. Идеология и политика в посткоммунистической России.
М.: УРСС, 2000.
