Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Слова и вещи
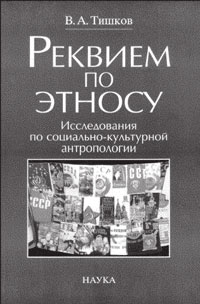 Валерий Тишков. Реквием по этносу:
Валерий Тишков. Реквием по этносу:
Исследования по социально-культурной
антропологии. М.: Наука, 2003. 544 с.
Едва приступив к чтению книги, я с радостью
поняла, что обнаружу в ней не просто «исследования», хотя и «просто» исследований мне
хватило бы с лихвой. Я поняла, что обнаружу в
ней политику. Политика здесь — не «помимо»
и не «сверх» науки. Эта книга политическая
именно потому, что она по-настоящему, в самом высоком смысле слова научная. Для меня,
по крайней мере, совершенно очевидно, что
программа расширения горизонтов дисциплины, преодоления «ниши этничности»
и «групповой категоризации предмета» имеет четкий
политический смысл. «Разглядывание первобытности
в современных коллизиях»
считается торговой маркой
этнографов и антропологов,
но этот подход плодит опасные политические иллюзии:
«Как считают апологеты
глубоких этнографических
реконструкций, если бы
российское общество знало,
что чеченцы — это доживший до наших дней этнокультурный реликт… что
они продолжают жить по законам обществ эпохи военной демократии и что они
по своему менталитету и духу есть настоящие античные
воины… тогда бы российские политики и военные не начали войну
в Чечне…» (с. 9). Ортодоксальный академический эволюционизм, основанный на позитивистской схематике, порождает иные иллюзии, например иллюзию того, что
«национальная политика» возможна только
при условии постулирования естественности,
постоянства и жесткой дискретности наций,
народностей и этносов. Критика конструктивизма, олицетворением которого для «ортодоксов» как раз и является автор книги, ведется
за рамками научной полемики и представляет
собой «своего рода академический вариант более общего синдрома антилиберализма»
(с. 14). Тоже, стало быть, политический феномен. Даже сам факт издания автором обзорного текста по социально-культурной антропологии имеет прямое отношение к политике
государственных стандартов в области образования: «Сочиненный социологами… стандарт по “социальной антропологии” к общепринятому в мире пониманию этой
дисциплины отношения не имеет. Это было
сделано в целях узурпации части рынка интеллектуального знания и высшего образования со стороны предприимчивой группы социологов и “социальных философов”» (с. 25).
Во всем мире основой «антропологии» является этнография, т. е. такой метод производства знания об обществе, который основан на
прямом контакте, включенном или участвующем наблюдении. Этнография — это никакая
не «философия этноса», а в первую очередь
практика полевой работы.
Но что плохого в «ортодоксальной» трактовке
этноса и этничности? Дело
не столько в том, что «ортодоксы» наделяют этничность природным бытием,
сколько в том, что они используют для этого «глубоко укоренившуюся в науке
структуралистскую формулу… “мы и другие”, которая
предполагает существование глубоких культурных
оппозиций для осуществления акта этнического самосознания и групповой консолидации» (с. 107).
Установка на фиксацию
различий в сфере «национальной политики» приводит к господству жесткой
нормы единственной, обязательной и кровной национальной принадлежности. Возникает ситуация вынужденной,
предписанной этнической идентичности, когда, например, человек, русский по культуре
и самосознанию, должен признать себя армянином только потому, что у него фамилия Хачатурян и соответствующий фенотип. Таким
образом государство, разделяя своих граждан
по национальному признаку, проводит жесткие границы там, где их нет, создает искусственное размежевание в обществе и провоцирует этнические конфликты.
Именно в среде чиновников, т. е. людей,
реализующих государственную политику,
первым делом должно быть популяризовано
представление о множественном, ситуативном и дрейфующем характере идентичности, о том, что этнические группы существуют не
сами по себе, но в процессе социального конструирования, что «таксономические конструкции ученых… являются крайне условными
и… зависят от политики» (с. 121), что именно
процедура (научная классификация, перепись
населения) определяет номенклатуру народов, что не существует никаких фундаментальных коллективных архетипов в виде этносов, что обязательная внутригрупповая
солидарность и неизбежный межгрупповой
конфликт выдуманы кабинетными идеологами от науки, что «этничность может быть и
служит основой для мирных межгрупповых
отношений не в меньшей степени, чем для
отчуждения и конфликта» (с. 127). Последнее
обстоятельство игнорируется большинством
этнологов, которые «ведут себя в данном случае как представители массмедиа, для которых новость — это экстраординарное событие, а не жизненная рутина» (там же).
Очевидную политическую нагрузку несет
различие «этнического» и «национального».
Если Россия считается не просто многоэтничным, но многонациональным государством, это означает, что кроме проблемы меньшинств и их культурного статуса есть еще
проблема наций и их самоопределения в качестве суверенных государств. Понятие «нация», политически легитимированное как синоним «государства» в момент создания
ООН, имеет весьма нечеткий объем, который
может произвольно меняться по политическим соображениям, поэтому «нация не
представляет собой научную категорию, и она
должна быть устранена из языка науки и политики» (с. 151). То же относится и к термину
«этнос», который, к сожалению, появился
в лексиконе президента Путина: «…В. В. Путин стал единственным в мире главой государства, который использует термин “этнос”
и, видимо, знает, что он обозначает» (с. 156).
Тишков хочет сказать, что знать этого не может никто, даже Путин, поскольку терминам
«этнос» и «нация» невозможно дать явное
определение. Этносом или нацией можно
только называться, и вопрос в том, кто и с какой целью это делает или не делает. Так, Россия, единственная из пятнадцати республик
бывшего Союза, оставила идею нации «в доктринальной собственности части составляющих его административных единиц» (с. 166).
Если мировое сообщество будет и дальше
пользоваться идеей «нации» и не найдет более рациональной доктрины государствообразования, политикам, экспертам и прочим
гражданам России придется усвоить «ооновское» значение слова «нация» и осознать себя
«россиянами». Тишков подчеркивает: не
стать новой, ранее не существовавшей нацией, а просто изменить словоупотребление на
относительно более рациональное. Но есть
вариант и получше: это отказ всех государств
мира от слова-призрака «нация» и его производных. Иначе все новые и новые «этносы»
будут объявлять себя «нациями» и требовать
государственного суверенитета.
Одним из самых мощных генераторов
групповых идентичностей является перепись населения. Именно советская перепись 1926 года впервые оформила такую, например, этническую группу, как «русские».
«Неучет изменения самого содержания русскости и механистические проекции данных
переписей и других более ранних описей населения… приводят исследователя к политически предпочтительным выводам о русских
не как о меняющейся во времени форме личностной идентификации, а как о неком…
длительно существующем коллективном теле, которое и осуществляет акт российского
государствообразования» (с. 193). При проведении переписи 1926 года была использована
категория национальности (народности), которая сохранилась и в переписи 2002 года.
Между тем большинство современных государств резервируют категорию «народ» для
всего населения, создавая идеологическую
почву для национального единства. Подготовкой к переписи 2002 года занимались не
ученые, а чиновники. Первым негативным
следствием этого факта стал принцип добровольного и анонимного участия: «большинство высших федеральных чиновников, будучи
богатыми людьми и проживая в дорогих загородных особняках, могли имплицитно проецировать перепись на свою личную ситуацию
и отторгать более жесткий подход» (с. 204).
Везде, кроме России, перепись носит обязательный характер. Что касается программы
переписи, то она воспроизводила господствующую установку на самовосприятие страны
как разрушенной и пребывающей в жестоком
кризисе. Важным элементом парадигмы кризиса стал «миф о демографической катастрофе в России». Тишков утверждает, что если бы
не принцип добровольности, по итогам переписи этот миф был бы развеян. Кроме того,
не были учтены два или три миллиона бывших советских граждан из других государств:
«…это молодые мужчины, которые трудятся
в сфере обслуживания, строительства, торговли и приносят огромную пользу стране. Без
них не были бы осуществлены многие стройки и не было бы фруктов на рынках и в магазинах российских городов» (с. 407). В части
вопросов о национальности и языке была
снова использована формула «многонациональности» и категория «родного языка»
(многие указывают в качестве родного язык «своей» национальности, на котором они не
говорят). Предложение автора о замене «национальности» на «этническую принадлежность» было отвергнуто, не говоря уже о том,
чтобы разрешить указывать множественную
этническую принадлежность (например,
в моем случае: «татарка, грузинка, каталонка,
арабка», и то лишь в первом приближении,
хотя обычно я пишу «русская»). Не нашло
поддержки и предложение отделить язык от
национальности. Отечественная наука в данном случае была озабочена старым вопросом:
«Сколько народов живет в России?» «Если бы
ученые-этнологи лучше поняли символическую природу этнического… тогда за ними
могли бы последовать и российские политики, расширив свои возможности управления
этой сферой так же через символьные действия. Но, увы, этого не произошло. <…>
В России опять переписывались “народы”,
а не “идентичности” в рамках одного российского народа. Тем самым… перепись… не выполнила свою основную миссию — создать
народ для государства» (с. 226).
К сожалению, некоторые темы книги
Тишкова я могу лишь упомянуть: это мультикультурализм, антропология пространства
и времени, толерантность, стратегии противодействия экстремизму, сепаратизм и терроризм, насилие, война, диаспора. В осмыслении всех этих тем Тишков применяет метод
последовательной редукции «de re» к «de
dicto», «вещей» — к «словам», и старается показать, как из «слов» возникают «вещи» и как
важно подобрать правильные «слова», чтобы
возникли правильные «вещи». Так, например, «…насилие и мир, как и переход от одного к другому, — это прежде всего определенный дискурс, и без его практики все три
субстанции невозможны, а тем более их динамика. Без говорения о конфликте и без его
объяснения, а также без первичного насилия
как акта речи сам конфликт и физическое
насилие невозможны» (с. 381). Вполне закономерно, что важнейшей стратегией противодействия экстремизму Тишков считает политику отказа в публичности: «На экранах
телевизоров и в печати не должны появляться
и цитироваться не только теоретики и активисты экстремизма, но и сообщения на эту
тему необходимо строго дозировать, придавая
им целенаправленный характер без пересказа
аргументов и показа “как это можно делать”»
(с. 332). Более того, следует «поднять моральную планку» по поводу того, что допустимо
и что нет не только в СМИ, но и в школе,
на улице, в библиотеке, за обеденным столом. Каждый сознательный гражданин в меру
своего понимания должен «мониторить» лексику сына, принесенную из школы, надписи
на заборе, школьные учебники. А экспертам
и публицистам неплохо бы собрать конференцию «с выводами научного, морального
и административного воздействия» (с. 335),
например, по поводу трудов Льва Гумилева,
которые чаще всего цитируются в профашистских изданиях и при этом издаются миллионными тиражами. Следует тщательно отследить такой, например, источник сепаратизма,
как внешняя диаспора, особенно те ее представители, которые заняты в сфере производства «слов»: «Проживающий в Москве чеченец или абхазец, читая профессорские
лекции в столичном вузе… на досуге озабочен
независимостью “своей родины”. Он суетится с сочинением текстов деклараций о суверенитете и с подготовкой пропагандистских
брошюр и поджигательских речей, направленных по сути против государства, в котором живет и из кассы которого получает свою
зарплату (а иногда и носит армейские мундиры с высокими погонами)» (с. 353). Потенциально опасные «слова» надо контролировать,
а там, где это невозможно, нельзя допускать
их появления. Нельзя было, к примеру, пускать внешних наблюдателей в Чечню: «Ни одна западноевропейская страна не допустила
пока комиссара ОБСЕ по делам меньшинств
на собственные территории» (с. 358).
Продуманная государственная политика
очищения «слов» необходима еще и потому,
что российское общество при «высокой образованности населения… сильно идеологизировано, ибо имеет непропорционально
большую и крайне претенциозную культурную элиту (“инженеры человеческих душ”),
которая довольно успешно узурпирует массовое сознание в пользу своих субъективных
представлений» (с. 405). Не под влиянием ли
этой элиты Путин произнес во время встречи с финским президентом слова: «Мы пока
еще очень бедная страна»? Тишков поправляет: «Мы явно принадлежим к “золотому
миллиарду”, пусть внизу, но мы принадлежим к нему» (с. 367). Это не констатация какого-то реального «факта». Это политическое
заявление. Политика, какой она должна
быть в понимании Тишкова, не сводится
к определению того, что «возможно», исходя
из того, что «есть», т. е. к выявлению скрытого потенциала «вещей». Не сводится она
и к пустым, бесплодным «словам». Политика — в умении найти такие «слова», которые
смогут породить новые, небывалые, невозможные до сих пор «вещи». Задача ученого — объяснить политику, стоящему у власти, какие «слова» порождают плохие
«вещи», а какие — хорошие, нужные, полезные «вещи». В. А. Тишков с этой задачей
справляется блестяще.
