Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».
Уважаемые читатели и авторы.
Русский английский Набоков
Брайан Бойд. Владимир Набоков. Русские годы: Биография / Авторизованный перевод с английского Г. Лапиной. М.: Издательство «Независимая газета»; СПб.: Издательство «Симпозиум», 2001. 695 с.
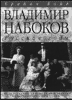
С этой книгой, как, впрочем, и с ее автором (и с ее главным героем тоже), у меня отношения особые. Оригинальную, англоязычную, версию «Русских годов» я купил в Лондоне году в 94-м, в книжном магазине рядом с Университетом и Британским музеем, в котором, заметим ехидно, Набоков никогда не бывал. И не собирался бывать, ибо библиотек не жаловал и даже гордо утверждал, что за время учебы в Кембридже ни разу не заглянул в настоящий борхесовский рай — главное книгохранилище Тринити-колледжа. Двухтомник (ибо я купил в Лондоне и вторую часть «Владимир Набоков: Американские годы») в мягкой обложке простоял шесть лет в моем книжном шкафу, затем сменил географию обитания вместе со своим хозяином, но прочтен был лишь на четверть. Итак, половина «Русских годов» известна мне по-английски. Текст произвел на меня большое впечатление; и не только потому, что он находится в русле великой англо-саксонской культуры литературных биографий. Обстоятельность, точность языка, тонкость описаний — все это сделало книгу Бойда превосходным чтением, особенно для поклонника Набокова, коим ваш покорный слуга и является. Более того, это тот самый случай, когда автор оказывается конгениальным герою: нет, он не подлаживается под него, но вполне набоковские шуточки и каламбуры выглядят естественно и достойно. Тогда меня несколько раздражало стремление Бойда объяснить читателю исторические реалии: систему российского самодержавия, судов, расстановку политических сил в предреволюционные годы, господствующее мировоззрение русской интеллигенции, литературную ситуацию и даже «еврейский вопрос», но тут уж сетовать не приходится, учитывая, кому изначально адресована книга.
Автора «Русских годов» я впервые увидел года два с половиной тому назад в доме номер 47 по Большой Морской, т. е. в том самом, в котором родился главный герой его повествования. Брайан Бойд читал лекцию о «Лолите», точнее — он интерпретировал убийство Куилти как воображенное Гумбертом Гумбертом, а не настоящее. Обстановочка мероприятия была из позднего, американского, Набокова: роскошная деревянная гостиная, десятка полтора слушателей, косноязычная переводчица, которую хотелось попросить замолчать, щеголеватый лектор, тонко полемизирующий с концепцией другого замечательного набоковеда Александра Долинина. Самым ярким впечатлением так и осталась десятилетняя девочка, которую родители взяли с собой на лекцию (видимо из просветительских соображений). Девочка сидела в первом ряду, в руках она держала ярко-красную розу и маленький плетеный горшочек, куда она периодически эту розу засовывала. Докладчик был явно смущен и старался в ее сторону не смотреть. После перерыва часть публики расползлась, учуяв, что фуршета по поводу демистификации убийства американского драматурга не будет. Увели и девочку. Теперь Бойда смущал пустой стул— чуть ли не больше, чем юное создание с розой и горшочком.
Что же до героя сочинения Брайана Бойда, то мое отношение к нему прошло все стадии, причем — прошло по кругу. От восхищения к сомнению, от сомнения — к раздражению, от раздражения — к презрению, от презрения— к новому интересу, смешанному с раздражением, и, наконец, к новому восхищению. Впрочем, здесь не место разбирать как факты духовной биографии рецензента, так и особенности сочинений Набокова-Сирина. Поговорим о нем самом.
За несколько последних лет Набоков получил сполна — не только признания, восторгов, юбилейных воспеваний, ниспровержений и прочего, что полагается на долю великого писателя. Он «получил сполна» как частный человек, как аристократ, как выдумщик и неутомимый жизнестроитель. Хитроумный его план оказался под угрозой разрушения, причем совсем не с той стороны, откуда он видел угрозы.
Для Набокова писателей не существует, существуют их тексты. Обстоятельные жизнеописания он воспринимал исключительно как гумус для своей (и очень редко — чужой) прозы. Говорить при нем о литературных биографиях, литературном быте (во вкусе Эйхенбаума), о фрейдистских раскопках индивидуального сознания значило нарушить табу и быть мгновенно уничтоженным небожителем Монтре. Меж тем, Набоков понимал, что и сам не избегнет общей участи и о нем тоже сложат биографию, и не одну. Качество их и методологические подходы он мог себе живо вообразить. И Набоков решил (при помощи жены Веры[1]) предотвратить будущие конфузы тем, что сам принялся выращивать собственных биографов. После тщательного контроля за эстетическими, политическими и нравственными взглядами претендента его начинали медленно вводить во все более сужающиеся круги конфиденции, после чего — наконец-то! — счастливчик допускался к Самому. Ему доверяли выверенные на аптекарских весах дозы бесценных биографических сведений, показывали (из своих рук) выбранные места из переписки двадцатых и тридцатых, наговаривали отточенные характеристики коллег по писательскому цеху, по возможности, мертвых уже.
Результатом должна была стать Идеальная Биография Набокова, примитивное (ибо сочиненное не самим гением), но верное отражение бесценных страниц «Других берегов» и «Убедительного свидетельства». Память, заговорившая вдруг на уродливом (но все-таки приемлемом — без «бессознательного» и «страха кастрации») языке.
Но уже первый кандидат обманул ожидания. Эндрю Филд в своей биографии вдруг понес такую несусветную фрейдистскую чушь, что даже тем, кто не шибко разделял набоковские фобии, стало жалко писателя. Почти десять лет вакансия биографа оставалась пуста. Затем появился молодой новозеландец Брайан Бойд.
По-моему, Бойду поверили потому, что он (свидетельствую, см. выше) — джентльмен. А кто, кроме истинного джентльмена, может сочинить жизнеописание образцового джентльмена, к тому же сына джентльмена? Собственно, такой книга Бойда и получилась— джентльменской. Кажется, именно так, как он описан в «Русских годах» (и«Американских годах», пока еще по-русски не вышедших), Набоков хотел, чтобы его увидела публика.
И все-таки план Набокова оказался под угрозой. И вовсе не потому, что стали всплывать глухие намеки на возможность существования иного образа писателя, и не потому, что множатся неявные свидетельства, полузабытые воспоминания о баснословных эмигрантских берлинских и парижских годах, отысканные трудолюбивыми филологами. Ине потому, что публикация текстов «совсем раннего Набокова» окончательно разрушила представление о нем как о явившемся, будто Афина Паллада из головы Зевса, в полном всеоружии гении. Нет. Все гораздо проще. Книга Бойда не только «джентльменская», она — талантливая и правдивая. Одаренный барчук, оснащенный рампеткой и теннисной ракеткой, удаляется, и нашим глазам предстает несчастный изгнанник, у которого ублюдки убили нежно любимого отца, который не смог похоронить мать, которого сторонились из-за брака с еврейкой, который дожил до сорока лет в крайней (но гордой!) бедности. И, несмотря ни на что, солнечный гений. Странная, но несомненная инкарнация Пушкина ровно сто лет спустя.
Русское издание хорошо оформлено и неплохо переведено. Было бы совсем здорово, если бы с ним получше поработал редактор. На странице 199 ирландец Шеймус О’Сулливан (или даже в английском варианте О’Салливан) превратился в «Сеймаса», на 205-й английский поэт Уолтер Де Ла Мар слипся в«Деламара». Отмечу также бюрократические кальки с английского вроде словосочетаний «последовало столкновение» (это о студенческой драке) (страница 216) или «Николай Набоков, будущий композитор и деятель культуры» (страница 220). Как указано в выходных данных, перевод авторизованный. Могли бы посоветоваться с автором и избежать мелких казусов, от которых сам Владимир Владимирович, обитающий сейчас в какой-нибудь писательской Валгалле, лишь досадливо поморщится.
[1] Вообще, семейство Набоковых, Владимир Владимирович и Вера (с добавлением потом лысеющего оперного плейбоя Дмитрия) — не обычная «семья», а Семья, что-то вроде ельцинской. Своя иерархия. Своя выверенная система степени приближения посторонних к гению, своя политика, экономика и культура, наконец. Гениальная способность к паблик рилэйшнз. Все это вызывает зависть и восхищение; задача символистов выполнена: жизнь превращена в искусство.
