Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».
Уважаемые читатели и авторы.
Аквариум
Как возникает и функционирует странная вселенная новостей
|
Пишите коротко и неясно! Наполеон Бонапарт, первый консул Французской республики — составителям новой Конституции, 1800 г. |
Моя работа проста: я говорю в пустоту. Каждый час я вхожу в студию, похожую
на телефонную будку с микрофоном и пультом, мерцающим огоньками и тумблерами (назначение некоторых из них мне неизвестно даже сейчас, после четырех лет работы на радио). Я включаю микрофон и произношу: «В Москве столько-то часов. Передаем выпуск новостей». После чего 10 минут читаю в пустоту,
красиво именуемую «эфиром», короткие сообщения о войнах, взрывах, пожарах,
дипломатических переговорах и — гораздо реже — о каких-либо приятных или
курьезных событиях. Я не знаю, правда ли то, что я говорю. Хотелось бы думать,
что правда — во всяком случае, сочиняя (в смысле создавая) очередной выпуск,
я ничего не сочиняю (в смысле не выдумываю). Тем не менее лично я своими глазами не видел ничего из того, о чем пишу и говорю, — ни очередного заседания
Совета безопасности, ни разорванных бомбой террориста еврейских тел, ни снесенных в отместку за это арабских домов, ни замерзающих из-за аварии в котельной жителей какого-то сибирского поселка, в заковыристом названии которого
я сделал сразу две ошибки... Даже фраза «В Москве столько-то часов» не может
считаться полностью соответствующей действительности: в Москве, конечно,
именно столько часов, но я-то сижу довольно далеко от Москвы, и у меня на два
часа меньше; однако, поскольку наше радио вещает на Россию, время принято
объявлять московское.
Все, о чем я говорю в пустоту, видел и слышал не я, а неизвестные мне люди,
чьи впечатления, обработанные и причесанные редакторами информационных
агентств, донесли до меня ленты Рейтер, Франс Пресс, Ассошиэйтед Пресс,
ДПА, ТАССа и Интерфакса. Таким образом, выпуск новостей, доходящий до
ушей моих слушателей, представляет собой информацию, переработанную трижды: корреспондентом информационного агентства, его редактором и мной.
Иногда эта цепочка еще длиннее (например, если корреспондент агентства не
смог или не успел побывать на месте события и пишет со слов очевидцев),
иногда — короче (если информация получена от нашего собственного корреспондента). Так что каждая новость — не просто рассказ о событии, а результат
производственного процесса, в ходе которого иногда умышленно, а иногда невольно смещаются первоначальные акценты, что в редких, но не столь уж исключительных случаях приводит к изменению смысла события на прямо противоположный. Событие, конечно, остается событием, и post factum с ним уже ничего
не поделаешь, зато восприятие его аудиторией можно «отрегулировать». Ведь
первое правило информационного ремесла гласит: неважно, что произошло,
важно, как об этом было рассказано.
Язык новостей
Главным инструментом, формирующим восприятие текста, естественно, служит
язык. Помнится, в студенческие годы, когда я впервые прочитал «Дар» Набокова, мною несколько дней владело странное ощущение: казалось, что после человека, сумевшего так описать банальнейшие вещи вроде освещенной солнцем листвы или медленно гаснущего в пепельнице окурка, я не имею права говорить,
а тем более писать по-русски. Да и вообще никто не имеет. Зачем, ведь вершина
достигнута, и все сказанное или написанное теперь будет заведомо хуже...
В информационном ремесле — к которому, конечно, относятся не только выпуски новостей, но и репортажи, актуальные ток-шоу и вся прочая журналистика события, — перед автором стоит задача, прямо противоположная набоковской
(и вообще писательской). Он должен минимальными изобразительными средствами передать максимум информации. Сообщать о событиях нужно быстро (конкуренты не дремлют), придирчиво подбирать и сортировать слова некогда, поэтому в ход идут готовые словесные блоки, которые остается лишь составить
в нужном порядке, как детали конструктора «Лего». В результате язык журналистики события переполнен клише[1], в продукции информационных агентств их
доля достигает ста процентов. Жизнь ускоряется, за ней, пыхтя и задыхаясь, несутся масс-медиа, на ходу теряя былые традиции и даже целые журналистские
жанры, в свое время весьма популярные. Так, например, фактически почил в бозе очерк — странный гибрид информационного ремесла, литературы и даже философии, нередко ошибочно причисляемый к особенностям русской журналистской традиции, якобы более склонной к анализу, комментарийности и всякого
рода «размышлизмам», чем журналистика западная, сиюминутная до мозга костей. (На самом деле это, конечно, не так: мастером жанра был, например, американец Норман Мейлер; просто он не догадывался, что для его reports в русском
языке имеется специальное слово «очерки».)

За насыщенность языка штампами, однако, приходится платить. Прежде всего, в лингвистическом «конструкторе» детальки все-таки должны быть подобраны так, чтобы выстраивалась целостная картина. (Соответствует ли она той действительности, о которой рассказывает, — другой вопрос.) Клише должны
употребляться именно там и именно так, чтобы они стали органичной составной
частью информационного мира данного СМИ (об информационных мирах речь
впереди). Вот лишь один пример. Казалось бы, какая разница, «заявил»
Джордж Буш о том, что Саддам Хусейн — кровавый диктатор, или просто «сказал» об этом? На самом деле разница огромная. «Сказать» — в данном случае недостаточно информативный глагол, поскольку он не передает какого-либо отношения сообщающего к говорящему. Он просто указывает на говорящего, а этого
мало, так как слово должно не только указывать и обозначать, но и нести в себе
дополнительное сообщение — хотя бы из соображений экономии, столь ценимой
в информационных жанрах. Глагол же «заявить» предполагает, что говорящий
а) несет ответственность за свои слова («сказать» можно и просто так, «от балды») и б) эти его слова значимы, заслуживают внимания. Поэтому лица, облеченные властью, в информационных текстах почти никогда не «говорят» — они
только «заявляют», «отмечают» или «подчеркивают» (для эмоционально окрашенных заявлений есть специальные клише — например, «подверг критике», усиленный вариант — «подверг резкой критике»). Иногда влиятельные лица могут
также «утверждать», но в таком случае их слова теряют в цене и весе, а отношение к говорящему становится менее серьезным. «Джордж Буш утверждает, что
Саддам Хусейн — кровавый диктатор»; глагол «утверждать» подразумевает, что
на самом деле правитель Ирака может быть вполне приличным человеком или же
сообщающий не слишком доверяет говорящему, в данном случае Бушу. А вот глагол «полагать» акцентирует отстраненность сообщающего, который не поддерживает говорящего, но и не собирается его опровергать. В то же время и «полагать» звучит не вполне нейтрально. На «полагать», как и на «утверждать»,
лежит налет иронии, но не столь явный. Он заметен лишь в том случае, если глагол сопровождает очевидно нелепое утверждение: «Джордж Буш полагает, что
Земля плоская».
Эта игра оттенками смысла сама по себе доказывает, что пресловутая «объективность» новостей, на которой настаивает каждое уважающее себя средство массовой информации, — это в общем-то фикция. Клишированный язык
устроен так, что в его рамках невозможно избежать той или иной расстановки
акцентов. Более того, этот процесс не ограничивается отдельными словами.
Клишируются не только выражения, но и целые стили, на основании чего порой возникают причудливые ролевые игры. Примером, когда интервьюируемый не захотел играть в такую игру, из-за чего в ткани информационной программы возникла смысловая дыра, является памятное многим появление
Владимира Путина в передаче CNN “Larry King Live”. На вопрос Ларри Кинга
«Господин президент, что же случилось с подводной лодкой “Курск”?» Путин
ответил неожиданно банально: «Она утонула» — выйдя тем самым из игры, которую Кинг попытался ему навязать. Играй интервьюируемый по правилам,
он должен был бы долго объяснять обстоятельства трагедии «Курска», ход расследования ее причин и общее значение случившегося для российских вооруженных сил и общества в целом. Язык такого объяснения — несмотря на печальную и весьма человеческую тему — при этом обязан быть достаточно
дегуманизированным, чтобы вписаться в информационное клише «интервью
с лидером иностранной державы». Если бы Кингу по ходу разговора удалось
спровоцировать Путина на спонтанные эмоции или резкие высказывания, это
было бы успехом интервьюера, поскольку такое квазинарушение правил игры
на самом деле тоже предусмотрено правилами, но лишь в виде необязательного бонуса, делающего игру в «интервью с лидером иностранной державы» более интересной — по крайней мере для интервьюера. А вот добровольный переход интервьюируемого на обыденный, житейский язык, которым он,
президент, по идее может разговаривать только в состоянии сильного возбуждения или раздражения, в правила не вписывается. Именно поэтому путинское «Она утонула» запомнилось надолго.
Коварство клишированного языка заключается в том, что у клише весьма
своеобразные отношения со смыслом. Некоторые слова от частого употребления
стираются, как монеты, и почти полностью утрачивают какое-либо значение,
а вместе с ним — и ценность для информационных жанров. Ведь информационное ремесло не столько нуждается в точности и ясности слов, сколько требует от
них хоть какого-нибудь смысла, поскольку информация рассчитана на восприятие, а воспринимать бессмыслицу можно разве что как набор звуков[2]. Окончательно затертые клише могут служить разве что благодатным материалом для
писателей-абсурдистов, составляющих из них шедевры бессмыслицы — вроде монолога одного из персонажей пьесы Вацлава Гавела «Пикник»: «Я? А кто это — я?
Нет, в самом деле, я не люблю столь односторонне поставленных вопросов! Как
бы мы на них ни ответили, мы все равно не сможем понять всю правду, а лишь какую-то ее малую часть. Ведь человек — это нечто столь богатое, сложное, изменчивое и многообразное, что не существует слова, фразы, книги, которые могли бы
его полностью описать. В человеке нет ничего постоянного, вечного, абсолютного, человек — это непрестанные перемены! А наше время — это уже не время статических, неизменных категорий, когда А было только А, а Б — всегда только Б;
нынче мы хорошо знаем, что А может одновременно быть Б, а Б — А...»[3]
Мифы новостей
Особую роль в информационном ремесле играют смысловые клише (они могут
иметь как словесную, так и визуальную форму), которые Ролан Барт назвал
«мифическими понятиями». Это понятия, которые фиксируют и отражают не
саму реальность, а то или иное представление о ней. «В мифическом понятии
заключается лишь смутное знание, образуемое из неопределенно-рыхлых ассоциаций... Оно представляет собой не абстрактную чистую сущность, но бесформенный, туманно-зыбкий сгусток, единый и связный лишь в силу своей
функции... Мифические понятия не обладают никакой устойчивостью: они могут создаваться, искажаться, распадаться, полностью исчезать. Именно потому,
что они историчны, история очень легко может их и уничтожить»[4]. Мифические понятия служат отличным средством создания искусственных информационных миров — что, собственно, и является главной функцией современных
масс-медиа.
Возьмем в качестве примера весьма актуальное понятие — «борьба с терроризмом», после 11 сентября 2001 года чрезвычайно активно используемое в информационных сообщениях. Его мифический характер станет ясен, как только
мы попытаемся понять, какой же смысл вкладывают в него СМИ разных стран.
Для американских масс-медиа «борьба с терроризмом» — это длящаяся уже второй год общенациональная кампания, своего рода аналог «Нового курса» Франклина Рузвельта или участия США во Второй мировой войне, которое когда-то
тоже преподносилось американскому обывателю чрезвычайно «кампанейски».
(Возможно, войну во Вьетнаме Америка проиграла именно потому, что не сумела превратить ее в такого рода кампанию: в 60-е годы раскол в американском
обществе оказался сильнее, чем общеамериканская страсть к грандиозным шоу.)
«Борьба с терроризмом» — это challenge (одно из любимейших словечек американских СМИ, значение которого весьма приблизительно передается русским
«вызов»), на который страна должна достойным образом ответить. И дело здесь
не в конкретных исторических обстоятельствах, не в трагедии 11 сентября и вызванной ею волне американского патриотизма, а в более глубинных особенностях национальной психологии американцев.
Крупнейшие американские СМИ (газеты «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон
пост», телекомпании NBC и CBS, общественное радио PBS и др.) леволиберальны, поэтому они далеко не безоговорочно поддерживают политику нынешней
правоконсервативной администрации Буша. Однако даже критикуя конкретные
действия, предпринимаемые ею в рамках антитеррористической кампании (особенно часто звучит обеспокоенность тем, что усиление мер безопасности происходит за счет прав и свобод граждан США), СМИ на самом деле исходят из той
же психологической посылки, что и власти. Суть ее в упрощенном виде такова:
Америка — не только экономический и политический, но и моральный лидер человечества, поэтому ее действия, в том числе в рамках кампании по борьбе с терроризмом, должны соответствовать в первую очередь моральным критериям[5].
Представления об этих критериях у американских правых и левых различны, однако морализаторский пафос присутствует у тех и других. Сравните, к примеру,
два следующих высказывания: 1) «Было бы самонадеянно и оскорбительно
утверждать, что арабы или мусульмане равнодушны к основным ценностям бытия. Человеческие сердца, кому бы они ни принадлежали на Земле, стремятся
к одним и тем же положительным эмоциям»[6] и 2) «Права человека, свободы и человеческая справедливость не могут состоять в исключительном владении одной
страны или одной цивилизации. Они должны быть правами глобальными или же
они — вообще не права»[7]. Общее в них — уверенность в существовании универсальных ценностей и причастности США к этим ценностям. При этом первое
высказывание принадлежит Джорджу Бушу-младшему, второе же — левой американской публицистке Сьюзен Бак-Морс, чрезвычайно критически относящейся к нынешнему президенту и его политике.
Фактически речь идет об интерпретации понятия «борьба с терроризмом»
масс-медиа Соединенных Штатов и американским массовым сознанием в рамках свойственного данному обществу дискурса, в котором очень заметную роль
играют представления о борьбе Добра и Зла (с неизбежным торжеством Добра),
всеобщей ценности свободы и о благотворности сочетания индивидуализма
и свободной конкуренции с коллективизмом, имеющим моральную основу. Нетрудно установить исторические корни такого дискурса: это протестантская этика первых поселенцев. При этом Зло то и дело меняет облик (позавчера его звали
Гитлер, вчера — Хо Ши Мин, сегодня — бен Ладен), имя же Добра неизменно —
Америка. И тут уже совершенно неважно, что для американских правых речь идет
о реальной Америке со всей ее сверхдержавной мощью, а для левых, как правило, об Америке идеальной, о, выражаясь словами Гора Видала, «нашей великой
свободной республике», основанной Вашингтоном и Джефферсоном — той республике, которую, по мнению американских либералов, убивает создаваемое
администрацией Буша «государство национальной безопасности».

Интерпретация «борьбы с терроризмом» в западноевропейском информационном пространстве качественно иная. Для Европы, уже несколько десятилетий
отдыхающей от серьезных внешних и внутренних конфликтов, терроризм — совсем не challenge в американском смысле слова, не высота, покорение которой
может открыть новые блестящие перспективы. Терроризм в европейском сознании — фактор беспокойства, нечто, вырывающее немолодые благополучные народы Старого Света из приятной дремы. Борьба с терроризмом — отнюдь не высокая миссия, не крестовый поход сил Добра против Зла, а печальная
необходимость. Лишившаяся, в отличие от Америки, единого ценностного фундамента, современная секуляризированная мультикультурная Европа исповедует
куда более релятивистскую мораль, нежели ее заокеанский союзник-противник.
Поэтому и нынешние европейские мифы столь сильно отличаются от американских и даже противостоят им. Европа видит не реальную Америку — как, кстати,
и Россию, по отношению к которой европейское сознание и информационное
пространство мифологизировано, наверное, еще сильнее, — а ту Америку или
Россию, которую хочет видеть. (Слегка преувеличивая, можно сказать, что в данном случае действует правило «каждый судит о других в меру собственной испорченности».) Так, например, возникает представление об исключительно прагматическом характере политики США (любимое клише западноевропейских
масс-медиа последних месяцев: «Война в Ираке — это война за нефть»[8]) —
в то время как в действительности в политике Парижа или Берлина по иракскому вопросу есть ничуть не меньшая прагматическая составляющая. Таким образом, понятие «борьбы с терроризмом» оказалось деформировано существующим
в данном обществе мифологизированным дискурсом. В результате значительная
часть общества, в том числе и масс-медиа, перестает воспринимать «борьбу с терроризмом» как реальную проблему, рассматривая ее как лозунг, которым злокозненные аморальные политики прикрывают свои низкие цели. В информационном пространстве России «борьба с терроризмом» рядится в совершенно иные
одежды. С одной стороны, российские масс-медиа, все более солидаризирующиеся с позицией властных структур, используют это мифическое понятие в качестве фундамента для строительства другого мифа — о «антитеррористической
операции в Чечне». Вступает в действие вышеупомянутый принцип упрощения — и сложнейшее явление, каким является чеченский конфликт, превращается в схватку федерального Добра с сепаратистско-террористическим Злом. При
этом борьба «цивилизованного мира» — кстати, еще одно популярнейшее мифическое понятие — с терроризмом как бы оправдывает все, что проделывают
в Чечне российские власти. С другой стороны, «борьба с терроризмом» дает России ощущение причастности к миссии, которая представляется достойной как
«почвенникам» (обуздание терроризма и сепаратизма — задача, справиться с которой под силу только мощному государству, а именно этому идолу поклоняются
национал-патриоты), так и «западникам» (борясь с терроризмом, Россия наконец встала в ряды стран «цивилизованного мира»). Таким образом, «борьба с терроризмом» служит своеобразным средством внутриполитической терапии и преодоления раскола в российском обществе. Наконец, это мифическое понятие
играет важную роль в процессе идентификации и самолегитимизации нынешней
России, поскольку наше общество издавна отличается склонностью легитимизировать себя посредством других. Здесь можно вспомнить несколько исторических стереотипов, прочно закрепившихся в российском массовом сознании:
от «Руси, заслонившей Запад от монгольских орд» через «Петра Великого, прорубившего окно в Европу» к «советскому солдату, избавившему мир от коричневой
чумы». Историческая роль и ценность России каждый раз определяется исходя из
того, что Россия сделала для других или по отношению к другим. При этом в качестве «другого», с которым Россию связывают сложные отношения любви-ненависти и партнерства-соперничества, чаще всего выступает Запад. Российская
интерпретация «борьбы с терроризмом» — из того же ряда «исторических алиби».
Итак, на примере «борьбы с терроризмом» мы проследили особенности восприятия мифических понятий. Очевидно, что ни одна из вышеописанных интерпретаций данного понятия (американский challenge, западноевропейский фактор
беспокойства, российское средство самолегитимизации) не совпадает с буквальным значением термина «борьба с терроризмом». Ни одно из них не означает того,
чем, собственно, является эта борьба — системы военно-полицейских, разведывательных и государственно-политических мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение деятельности групп и отдельных лиц, организующих акты
насилия в отношении мирного населения по политико-идеологическим, национальным, расовым, религиозным и т. п. мотивам. Мифу не нужны подлинные значения, он основан на интерпретациях. Информационному же ремеслу необходимы
мифы, поскольку, во-первых, они являются разросшимися клише, каковые, в свою
очередь, служат очень удобным, хотя и ненадежным с точки зрения «естественного языка» средством передачи информации; во-вторых, масс-медиа представляют
собой часть той или иной общественной системы, которая — в силу самой природы социального — всегда основана на мифах и стереотипах. Без мифа нет культуры (и истории), без культуры нет общества, без общества нет информации.
Миры новостей
Немецкому медиамагнату Акселю Шпрингеру приписывают такое высказывание: «Люди в своей жизни руководствуются двумя могучими инстинктами — самосохранения и размножения. Поэтому все, что интересует их в новостях, касается власти, смерти и взаимоотношений полов». По большому счету, именно
соотношением трех этих главных тем и отличаются друг от друга миры, создаваемые отдельными СМИ. Это своего рода аквариумы, в которых протекает жизнь,
похожая на реальность[9] и в то же время имеющая мало общего с ней — хотя новости так любят притворяться простым описанием реальности.
Расстановка новостей в информационной программе (на газетной полосе,
в журнале) может многое рассказать о том, какого рода мир выстраивает данное
СМИ. Это, так сказать, стенки аквариума, определяющие его размер, а значит и то, какие рыбы в нем будут жить, будет ли в нем много камней, растительности
и какое там будет освещение. Здесь есть ряд традиционных ходов и приемов. Так,
в Европе, в том числе и в России, большинство «серьезных» телеканалов, особенно государственных или общественных, строит свои информационные выпуски
по четкой схеме: важнейшие политические события в стране — экономика — политические события в мире — культура — спорт — если останется место, курьезы — прогноз погоды. В США схема примерно та же, однако событиям в самой
Америке здесь, как правило, уделяется больше места, а тому, что происходит
в остальном мире, — меньше (каналы вроде CNN, рассчитанные на международную аудиторию, естественно, не в счет). Напротив, развлекательные, «коммерческие» телекомпании строят свое информационное вещание, нарочито отдавая
предпочтение «обывательским» новостям перед политикой, событиям частной
жизни — перед перипетиями жизни общественной. Новость о повышении цен
на бытовой газ здесь всегда будет предшествовать отчету о сессии парламента,
а ребенка, искусанного бешеной собакой, покажут раньше и расскажут о нем
подробнее, чем о перевороте в соседнем государстве. В рамках такой информационной политики порой используются самые неожиданные символы и знаки: например, чешский телеканал «Нова», относящийся ко второй из указанных категорий, в конце каждого выпуска вечерних новостей передает короткий сюжет
о каких-нибудь «милых зверюшках». Эти животные, несомненно, играют знаковую роль, неся послание зрителям: в отличие от серьезного и скучного государственного ТВ, мы не столько информируем вас, сколько развлекаем; с нами жизнь
легче, наш аквариум веселее!
Борясь за внимание зрителя, слушателя, читателя, любое СМИ неизбежно
превращается в рекламное агентство, рекламирующее само себя. Параллельно,
конечно, оно может продвигать на рынок и другие «товары» — политиков (так,
в 1996 году именно масс-медиа «избрали» Бориса Ельцина президентом), звезд
театра, кино и спорта, разного рода уникумов или шарлатанов (вспомним победное шествие Анатолия Кашпировского и Алана Чумака по телеэкранам России
начала 90-х) и даже прически и фасоны платьев, копируемые модницами у популярных телеведущих. Однако все это лишь обитатели аквариума, смысл же его существования — в нем самом. Даже СМИ, создаваемые под конкретную политическую задачу, как в свое время НТВ, как правило, очень скоро начинают жить
собственной жизнью. Аквариум далеко не всегда полностью подчиняется воле
и вкусам аквариумиста. Именно поэтому масс-медиа не могут рассматриваться
как простой инструмент манипулирования общественным сознанием: в конце
концов, даже в Туркмении или Северной Корее они не только служат инструментом государственной пропаганды, но и худо-бедно информируют о происходящем (конечно, в выгодном властям духе). Но точно так же СМИ нельзя считать
и исключительно средством информации и коммуникации — ведь специфика
информационного ремесла подталкивает масс-медиа к весьма выборочному
и схематичному изображению реальности.
Рассказывают, что в конце 80-х у Александра Невзорова в студии невероятно
популярных тогда «600 секунд» на стене висел плакатик-напоминание самому себе: «Труп — это еще не сюжет». Тем не менее большинство сюжетов его программ
было посвящено именно «трупам», ранее неизвестным застегнутому на все пуговицы советскому ТВ — убийствам, грабежам, пожарам, автокатастрофам... Этот
принцип с теми или иными вариациями воплощают в жизнь практически все
информационные программы, из сообщений которых встает тревожный, опасный, раздробленный мир — еще более тревожный, опасный и раздробленный, чем он есть на самом деле. Как отмечает французский теоретик масс-медиа
Пьер Бурдье, «логика журналистского поля из-за особой формы, которую принимает в нем конкурентная борьба, и посредством... навязываемых полем рутины и привычного хода мысли производит представление о мире, нагруженное
философией истории как абсурдного чередования катастроф, которые невозможно ни понять, ни предотвратить»[10]. В то же время такая ситуация совершенно естественна: новости — это то, что привлекает внимание, возвышаясь над
уровнем обыденности, и вряд ли журналисты виноваты в том, что большинство
таких «вершин» представляет собой явления катастрофические или по крайней
мере тревожные.

Главная особенность информационного ремесла, однако, заключается
в том, что, исключая из сферы своего внимания обыденность (из которой
жизнь большинства людей состоит процентов на 90, а то и более), СМИ волейневолей навязывают аудитории представление о том, что обыденности как бы
не существует вовсе. Именно из-за частых противоречий между тем, что мы видим каждый день вокруг себя, и тем, что пишут газеты и показывает телевидение, возникает ощущение, что масс-медиа «нагнетают страсти» и «очерняют
действительность». Отсюда — соблазн корректировки работы СМИ, которому
так часто поддаются властные структуры в обществах, где традиция свободы
слова[11] не имеет прочных исторических оснований. С психологической точки
зрения гонения на СМИ — прямое следствие специфической аберрации зрения: мир масс-медиа, в первую очередь мир новостей, принимается за реальность. Таким образом, цензоры, стремящиеся «поставить на место зарвавшихся
журналюг», — нередко просто слишком усердные зрители, слушатели и читатели. Те, кто пытается манипулировать масс-медиа, сами уже стали объектами
манипуляции, подтверждая вывод того же Бурдье: «Чем лучше мы понимаем,
как функционирует определенная социальная среда, тем яснее становится, что
составляющие ее люди манипулируемы в той же степени, что и манипулируют.
Они тем лучше манипулируют, чем больше манипулируемы и чем меньше отдают себе в этом отчет»[12].
Действительно, сотрудники пресс-службы президента, каждое утро составляющие для него подборку информационных сообщений, во многом более могущественны, чем первое лицо государства, поскольку именно они в значительной степени формируют представления этого лица о мире, от которого оно
изолировано стенами Кремля, пуленепробиваемыми стеклами лимузина и чередой протокольных встреч. Однако журналисты, в свою очередь, то и дело
становятся объектами самоманипуляции, которую во всей ее сомнительной красе общество наблюдало, например, во время конфликта вокруг «старого» НТВ.
Со стороны «команды Киселева» это была борьба за родной информационный
аквариум, в котором государство вознамерилось сменить воду и пустить туда
новых рыбок. Но, судя по поведению журналистов, конец аквариума они восприняли как конец света, маленький Апокалипсис, поскольку мир НТВ давно
уже заменил собой для многих из них большой внешний мир. Немудрено: научиться жить и в аквариуме, и вне его столь же непросто, как стать человекомамфибией.
Есть ли выход из порочного круга взаимных манипуляций и непрерывной
мифологизации информационного пространства? Барт полагает, что «...мы запуганы, ослеплены и заворожены разорванностью социального бытия. А добиваться мы должны именно воссоединения реальности с людьми, описания с объяснением, предмета со знанием»[13]. Я не сторонник бартовского рецепта: история
знает слишком много примеров «воссоединения реальности с людьми», принимавшего форму жестоких утопий и разрушительных мифов («мы наш, мы новый
мир построим»). Возможно, аквариум есть форма бытия не только масс-медиа,
но и человечества в целом, а миф — важнейшая составляющая социального.
Однако само осознание этого уже дает надежду: в конце концов, у каждого есть
возможность создать свой миф — о человеке, который не чувствует себя аквариумной рыбкой.
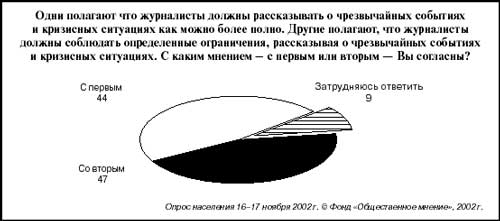
[1] Я ни в коей мере не отрицаю возможность существования «идеального репортажа» — текста,
в котором минимумом языковых средств достигается максимум не только информационной
полноты, но и художественной выразительности, а значит и психологического воздействия
на аудиторию. Более того, существует немало примеров подобных текстов. (Не знаю почему,
но весьма изобильной на них была гражданская война в Испании — можно вспомнить хотя
бы корреспонденции Э. Хемингуэя и М. Кольцова.) Однако подобные репортажи, на мой
взгляд, уже принадлежат литературе, а не журналистике — именно потому, что избавлены
или почти избавлены от клише, этих родимых пятен информационного ремесла.
[2] Впрочем, один мой знакомый, бывший журналист и яростный критик современной
журналистики, полагает, что только такое восприятие информационных сообщений
и является единственно верным.
[3] Цит. по: Kean J. Vaclav Havel. Politicka tragedie v sesti dejstvich. Praha, 1999. S. 121–122.
[4] Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 244–245.
[5] Речь идет, конечно, не о подлинном соответствии американской политики требованиям
христианской морали, а о том, чтобы в общественном сознании укрепился набор мифических
понятий, позволяющих считать политику США морально оправданной. Массовое сознание,
однако, в большинстве случаев неспособно отделить понятие от его мифической
интерпретации, или, в терминологии Р. Барта, «естественный язык» («язык-объект»)
от «метаязыка».
[6] New York Times. 25.02.2003.
[7] Бак-Морс С. Глобальная публичная сфера? // «Синий диван». Журнал заметок
и размышлений. 2002. № 1. С. 38.
[8] Это клише наглядно демонстрирует важнейшую особенность мифических понятий — их
односторонний характер. Из множества факторов, обуславливающих то или иное явление,
выбирается один, который и преподносится как главная и единственная причина явления.
Для СМИ, вообще склонных к упрощению, такой подход чрезвычайно характерен.
[9] Конечно, «реальность» тоже можно рассматривать как чистую условность. Однако в таком
случае мы рискуем забрести в дебри философских рассуждений, не имеющих прямого
отношения к теме этой статьи. Поэтому, говоря о «действительности», «реальности»,
автор имеет в виду наиболее привычное, повседневное значение этих слов — материальное
пространство, которое нас окружает.
[10] Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002. С. 158.
[11] Т. е. свободы каждого выражать свое субъективное мнение, а вовсе не говорить «правду,
правду и ничего кроме правды», как нередко ошибочно полагают многие приверженцы
либерализма.
[12] Бурдье. П. Указ. соч. С. 29.
[13] Барт Р. Указ. соч. С. 286.
