Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».
Уважаемые читатели и авторы.
Урбанисты, неспокойные сердца
В 2011 году состоялся конкурс на генеральный план Сколково. После всего, что Юрий Лужков натворил с Москвой, власти пребывают в уверенности, что наши архитекторы не умеют проектировать города, и предпочитают иметь дело с Западом, поэтому к конкурсу были допущены только зарубежные фирмы[1]. Победили французы, мастерская AREP[2]. Президент Дмитрий Медведев тогда считал, что в Сколково должны развиваться пять направлений — энергетика, ядерные исследования, компьютеры, биомедицина и космос. Французы предложили пять деревень, нанизанных на общую дорогу. Я был членом жюри и выступал за их проект изо всех сил, тем более что большинство поддерживало Рэма Колхаса (голландское бюро ОМА), и жюри в итоге проголосовало за два проекта. Окончательный выбор формально сделало руководство Фонда Сколково (Виктор Вексельберг), а по слухам — Владислав Сурков, и даже, возможно, сам президент Медведев.
Мне нравился проект AREP, потому что казалось, что по структуре он похож на Кембридж. Там, несколько упрощая, «один колледж — одна деревня», все они расположены вдоль дороги, деревни друг с другом общаются, есть пабы, кино, клубы, традиции, устойчивые формы поведения, колледжи соревнуются друг с другом в гребле. Что в гребле, это неважно, могли бы и прыгать с колокольни на парашютах, тем более что в Сколково Темзы нет, но важно, что есть локальная идентичность и взаимодействие между разными сообществами. Это люди из Три-нити, а это — из Кингс, у них разные колледжи, разные толстовки, разный сленг, и это организует городской диалог и городскую повестку дня. В Сколково биотехнологи могли бы ходить в пабы к ядерщикам, а ядерщики — играть в маджонг с энергетиками, и это было бы очень по-английски. Центральная площадь города получалась двухчастной — одну часть составляла въездная зона, где располагаются разные гостиницы и бизнес-центры, а вторую — университетская площадь.
Через два месяца от этого плана не осталось практически ничего. От отдельных деревень решили отказаться по сложной совокупности соображений, которые как-то и не очертишь. Ну, скажем, может так получиться, что компьютерщики уже о-го-го, уже вовсю встроились в мировой инновационный процесс и как сыр в масле там катаются, а космические дали даже еще и не просматриваются. В Сколково наука должна войти в рынок, а какой у космоса рынок? Слезы. И что, отказываться от освоения космоса?
Но это так не формулировалось, а формулировалось социологически, потому что там боролись с опасностью сокращения продуктивного общения между ин-новаторами. В том смысле, что если биомедицина будет жить от космоса в ста метрах, то в результате не зародится космическая биомедицина, а надо всех перемешать, и тогда она зародится. Социологи часто получаются из биологов, и тут, мне кажется, победила ботаническая партия с идеей перекрестного опыления. В итоге возникло одно поле «технопарка», где все вместе, второе поле «университета», где все тоже вместе, и еще три поля, где вместе обитают те, кто не влез в первые два. Нет и не может быть сомнений, что инновационная продуктивность такого типа расселения позволит Сколково далеко обойти Кембридж по степени интенсивности междисциплинарных связей.
Центральная площадь тоже не вышла университетской. Каждый из пяти районов был отдан одному куратору, очень именитому и замечательному: университет достался лауреату Притцкеровской премии (это архитектурная Нобелевка) Пьеру де Мерону, и он увел университет вбок, поскольку считал, что центральную площадь нужно оставить для вхождения в город природы и прекрасного вида на Москву. А там такой вид, что на переднем плане растет подмосковный хмызник, потом гаражи и сараи, средний план эффектно акцентирован трубами котельной, а в самой дали в дни, когда котельная не очень делает свое дело, невнятно сияет шпиль МГУ. Миленький, хорошенький Пьер де Мерон, — умолял я его на заседании Градостроительного совета Сколково в Париже, — у нас таких потрясающих видов очень много, вон на МКАД посмотрите налево-направо — взгляд оторвать не сможете, раз они так вас впечатляют. А вы бы сделали нам хоть одну площадь, как у вас в Базеле, маленькую, уютную, европейскую, у нас ни одной такой нет — мы все площади под танковые парады строили. Не уговорил. Он меня так покровительственно похлопал по плечу: не проснулось у вас, говорит, еще экологическое сознание, но ничего, это образуется. У России большой экологический потенциал, буду его раскрывать.
Но это в сторону от рассказа, а рассказываю я о градостроительном плане AREP. От него остался только автор, Этьен Трико, который теперь сидит членом Градостроительного совета Сколково с сардоническим выражением лица. Сказать, что эта его работа была сделана совсем впустую, я не решусь, потому что так много где происходит — и в Бразилии, и в Китае, и еще в разных местах, где надо строить новые города. Но понять, зачем она нужна, мне трудно. Хотя, с другой стороны, что бы переделывали Пьер де Мерон и Жан Пистр, Дэвид Чипперфилд и Юрий Григорян, Сергей Чобан и Кацуо Седзима, кабы не было генерального плана AREP? Что бы они переосмысляли и придумывали заново?
Но это мне не вполне ясен смысл такой градостроительной деятельности. А президент Медведев назвал опыт Сколково образцовым[3], и теперь у нас везде в рамках проекта Большой Москвы будут звать пять-десять западных команд, чтобы они делали генплан, который бы мы потом переделывали исходя из наших представлений о должном и прекрасном.
Урбанисты — особые люди. Тут в апреле 2012-го состоялся Пермский экономический форум, на котором была отдельная секция, «среда» называлась, с темой: нельзя ли как-то так сделать, чтобы среда улучшала качество социального капитала[4]. Выступали урбанисты, говорили: сделать можно. Нужно только, чтобы не мешали инвесторы и девелоперы, городские власти и жители. И чтобы не нарушались градостроительные законы, которые они напишут. А то они придумают генплан, регламенты, правила землепользования и застройки, а потом все кому не лень начинают их нарушать. А нужно, чтобы их решения имели статус закона, который никто не может изменить, тогда и социальный капитал вырастет, и вообще жить станет лучше. Что интересно, в их собственной деятельности (или все же правильнее сказать творчестве?) им мешают Градостроительный, Земельный, Водный и Лесной кодексы, а также система СНИПов, то есть вся система законодательства РФ в области территориального управления и развития.
Мне кажется, мы не вполне четко отдаем себе отчет в том, кто такие урбанисты и в чем смысл их деятельности. Они есть. Они рисуют то генеральные планы, то мастер-планы, то объявляют, что рисовать эти планы вредно — тут у них все движется волнами. У них меняются парадигмы, то они пытаются решать город функционально и главные усилия тратят на то, чтобы «селитьба», как они выражались вплоть до 1970-х годов, была отделена от промзоны зоной рекреации, то становятся яростными адептами mixeduse и начинают все перемешивать. Иногда они впадают в философию, эссеистику и даже некоторый мистицизм, начинают проектировать свет города, звук города и даже запах города, иногда, наоборот, становятся якобы прагматиками, то есть играют в деловые игры и проектируют бизнес в городе, власть в городе, распределение городского бюджета. Это все важно и интересно, за всем этим стоит своя реальность. Проблема не в том, что города нарушают их прекрасные проекты. Города вообще живут как-то без них, и после того как создан генеральный план города, его выбрасывают и больше о нем не вспоминают.
Возьмите Москву. Вы не поверите, но в ней, сегодняшней Москве, была градостроительная идея. Мало того, это была очень хорошая, даже гениальная, я бы сказал, градостроительная идея.
Рядом с реальным управителем московского градостроительства, Лужковым, некоторое время витал дух Алексея Эльбрусовича Гутнова. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин учредил в 1998-м премию имени Алексея Гутнова, и с тех пор раз в год повторяет: «Мы только сегодня начинаем по-настоящему осваивать идеи Гутнова. Переводим их в конкретные документы, правила регулирования, проектные решения».
Все, что можно сказать о Гутнове, носит несколько мифологический характер. Он написал несколько книг, но книги эти, нарочито популярные и бесхитростные, не позволяют проникнуть в суть его градостроительной теории[5]. Он трагически рано умер, и про градостроительство написать не успел. Его книга про город дописана Вячеславом Глазычевым, человеком разносторонним и талантливым и, возможно, аутентично воссоздавшим замысел своего друга. Но если это так, то собственные градостроительные воззрения Гутнов предполагал изложить в своей книге очень конспективно.
«Нам удалось, — пишет Глазычев, — понять, что есть в городе вещи программируемые и есть такие, что вырастают из своеобразного диалога программиста и городской жизни. Совмещение разных попыток понять "весь" город позволило, во всяком случае, увидеть, что у него есть "каркас", устойчивый, мало изменяющийся за века, и есть "ткань", куда более подвижная, переменчивая. Каркас способен к развитию за счет своей устойчивости, тогда как городская ткань не столько развивается, сколько переживает бесчисленные метаморфозы: перестраиваются дома, преображается структура внутриквартального пространства, магазины и клубы, фабрики и парки сменяют друг друга. Сложение вместеразных попыток понять сложность города привело к тому, что мы стали различать 1) "путь", прокладываемый каждым в отдельности и всеми вместе через толщу города; 2) "ориентир", позволяющий всякий момент уяснить, какую точку в системе координат города мы ощущаем под ногами. Мы увидели "район", границы которого отнюдь не обязательно совпадают с юридическими границами района или микрорайона, но он явно имеет какой-то собственный центр. Мы заново осмыслили понятие "границы", по ту и другую сторону которой городская среда видоизменяется ощутимым образом.
И еще раз мы заново осознали, что есть в городе 3) "узлы" — сгустки человеческой активности, у которых есть собственная энергия развития; вдруг транспортная остановка обрастает сначала торговым центром, затем к нему присоединяется культурно-досуговый центр, и происходит это все отнюдь не обязательно там, где предполагалось. Иными словами, от попыток уяснить "абсолютную" формулу градоустройства нам удалось перейти к вероятностной. Это немало»[6].
Это немало, но никак не объясняет роли Гутнова, который спустя 25 лет после своей смерти остается главным авторитетом для сегодняшних российских градостроителей. Насколько я могу понять, Алексей Гутнов сделал несколько принципиальных открытий, которые ставят его в один короткий ряд с главными градостроителями второй половины ХХ века. Он понял город как динамическую систему. Это естественно для социолога, экономиста, политика, историка — но для архитектора это невероятно, и я не могу назвать аналогий такому подходу.
Что значит — динамическая система? Откуда возникает динамика? Из жизни людей. Но люди не поддаются проектированию, они отвечают на проект. Ты что-то строишь, они что-то делают в ответ, и не совсем то, что ты задумал. Проектирование превращается в рефлексивный процесс, допускающий непредсказуемое развитие. Философски речь идет о проектировании свободы.
Для архитектуры это был прорыв, но даже и для гуманитарного знания в целом идея была нова, и методология проектирования непредсказуемых систем до сих пор — скорее поле вопросов, чем ответов. «Каркас», «ткань», «плазма», «ориентир», «путь», «район», «граница», «узел» — все это понятия для охватывания принципиально новой сущности — не города, не зданий и территорий, но поля свободного поведения людей. Полагаю, Гутнов видел некую n-мерную модель города, которая позволяет предсказать, скажем, как уменьшение высотности застройки отразится на динамике рождаемости в Москве. Не буквально сказать, что будет, а оценить вероятности, опираясь на многофакторный анализ. Это была принципиально новая концепция: ни русская, ни западная урбанистка пока не дошли до такого уровня понимания генплана, таких представлений об управлении городом. Урбанистика пошла по иному пути: занялась писанием законов, борющихся с опасностями, которые могут возникнуть при развитии города, оставив непредсказуемому непредсказуемо развиваться. Это более экономичный подход, но архитекторы здесь вынужденно отдают инициативу юристам и экономистам. Что забавно, они страшно переживают по этому поводу и стремятся отстоять свое право первородства, которое сами же уступили.
В 1985 году под руководством Гутнова была разработана концепция перспективного развития Москвы, которая впоследствии легла в основу Генерального плана города. Собственно с концепции и началась работа над новым генпланом, но в 1986 году Гутнов умер. В течение следующих десяти лет документ доводили до ума, хотя среди учеников Гутнова урбанистов его уровня не было. Тем не менее сотрудникам института Генплана удалось удержать некоторые существенные идеи Гутнова в новом Генплане. Они больше не проектировали объектов, магистралей, домов — они проектировали вилки возможностей для разных территорий. Чего они, насколько я понимаю, не умели делать — это рассчитывать, как взаимодействуют вероятностные процессы, как они, складываясь, формируют некий общий вектор.
Без этого моделировать процесс развития города невозможно, можно лишь определить рамки, в которых процесс этот протекает. В результате модель города получалась статической, она предполагала непредсказуемую динамику в заданных рамках и, соответственно, описывала не динамику, а рамки.
Кроме того, последователи Гутнова попытались внести в Генплан те его идеи, которые он высказывал по ходу дела применительно к ситуации 1980-х. Его волновало позднесоветское умирание центра города, он хотел внести туда жизнь и с этой целью выдвинул идею уплотняющей застройки (она потом получила политическое имя «точечной»). Город сильно изменился в 2000-х, центр перестал умирать и, наоборот, сделался самой престижной зоной, но идею продолжали продвигать. Гутнов придумал пешеходные улицы — в той транспортной ситуации, которая сложилась в Москве к Олимпиаде 1980 года, Арбат был вполне разумным решением. С тех пор транспортная нагрузка на город увеличилась чуть не в десять раз, но Москомархитектуры продолжает бороться за превращение в пешеходные зоны Столешникова переулка и Кузнецкого моста и еще, быть может, победит. Все это идеи совсем иного уровня, чем его целостная градостроительная теория, но последователи редко различают существенное и несущественное в идеях отцов-основателей. И, вероятно, это правильно — от гения лучше сохранить все, а уж потом разбираться, что он придумал.
Для человека, наблюдающего дело со стороны, это отчасти трагикомедия. Перед самым началом постсоветской реконструкции Москвы, в период стремительной деградации социальных, экономических, научных институтов, резкого сокращения ресурсов и крайней примитивизации хозяйственных отношений, у нас случился гений, который прыгнул на такую высоту, куда никто не добрался до сих пор. И ладно бы он просто умер. Нет, он оставил после себя группу адептов, которые пытались внедрить его замечательные идеи, взаимодействуя с Юрием Михайловичем Лужковым.
Что делал Лужков с исторической точки зрения? Я говорю не о политике, а об историческом изменении города. Строительный бум в Москве обусловлен необходимостью трансформации города социализма в город капиталистический. Гутнов, кстати, разрабатывал свой градостроительный план так, что тот был не релевантен форме собственности, важным было движение людей, а не мотивация их движений. Арбат, например, он проектировал как улицу художников и поэтов, где люди обмениваются художественными идеями — то, что потом они стали обмениваться товарами и денежными знаками, не входило в его планы. Соцгород не имеет места для капиталистического рынка. В нем нет инфраструктуры торговли, нет офисных площадей, банков, нет диверсифицированного рынка жилья, нет парковок, транспорт в основном общественный и т. д. Оценивая результаты строительного бума за 20 лет, мы можем сказать, что город капитализма в Москве построен. Но каждая вещь в этом городе не столько чем-то является, сколько что-то символизирует. Скользя по поверхности символов, ты вроде бы получаешь капиталистический город. Как только начинаешь в него всматриваться, обнаруживаешь сплошные фальсификации.
Чьи здания? Зримый признак капитализма — частная собственность на недвижимость. В Москве за годы строительного бума выстроено около 70 млн квадратных метров — по этому показателю город вырос в полтора раза. Вроде бы перед нами пример капиталистической активности, которая составляет суть капиталистического градостроительства. Но стоит коснуться конкретного дома — и все плывет. Собственник Гостиного двора — АО «Гостиный двор». Собственник комплекса на Манежной — АО «Манежная площадь» и т. д. Это частные структуры? Не вполне — в них основной капитал принадлежал московскому правительству. Это государственные структуры? Нет, не государственные, это частные предприятия.
Пока шли снос и строительство гостиницы «Москва», первый вице-премьер московского правительства Владимир Ресин еженедельно приезжал на площадку и проводил совещания. При этом инвестором проекта выступала фирма «Дек Моc», которую основала американская фирма Decorum Corporated, которую основал зарегистрированный в Лихтенштейне Hypo Moscow Real Estate Investment Fund, который сам — дочка лихтенштейнского Hypo Investment Bank, который дочка австрийского Vorarlberger Landes-und Hypotheken Bank, который — первая реальная организация в этой цепочке, сами знаете зачем выстроенной. Но сам этот банк в финансировании проекта не участвовал, а размещал средства Banque SCS Alliance и Сбербанка РФ, а чьи средства размещали они — банковская тайна[7]. Вопрос — в качестве кого там присутствовал Владимир Иосифович Ресин? Чего он туда катался и устраивал разборы полетов? Он выступал как чиновник? Как частное лицо? Как гибрид?
Также неясно чьей недвижимости в Москве масса. Тут надо еще учитывать, что в качестве частных девелоперов и инвесторов, которые являлись акционерами всех этих АО и ЗАО, чаще всего выступали те же чиновники московского правительства в обличии членов своих семей. Есть, впрочем, все же такие здания, которые принадлежат частным компаниям и в акционерах которых московское правительство не состоит. Недвижимость частная, но то, относительно чего она недвижимость, то есть земля, не частная. Она передана собственнику здания в аренду на 49 лет. Собственники надеются, что после 49 лет аренды земля перейдет к ним. Чиновники надеются, что через 49 лет собственников можно будет основательно выдоить по новой. 20 лет из 49 уже прошло.
Капиталистический строительный бум — концентрированное выражение конкуренции. Каждая фирма стремится возможно скорее сдать очередной объект и заняться новым. Так и было в Москве. Но строительные фирмы — это кто? У нас были, конечно, строители, не связанные с московским правительством, но они, кажется, занимались исключительно установкой сантехники. Реально московский строительный комплекс состоит из компаний, начинающихся на «Мос...» и заканчивающихся на «...строй» с некоторыми вариациями посередине (...инж..., ...пром..., ...жил...). Это частные организации? Нет, они ООО, ОАО, АО, которые так или иначе контролируются московским правительством. Но они и не государственные, они частные юридические лица. Когда правительство дает им заказ на строительство какого-либо объекта, то оно некоторым образом дает его себе самому. И невозможно понять, то ли заказ дается потому, что необходимо нечто построить, то ли потому, что строителям нужен заказ.
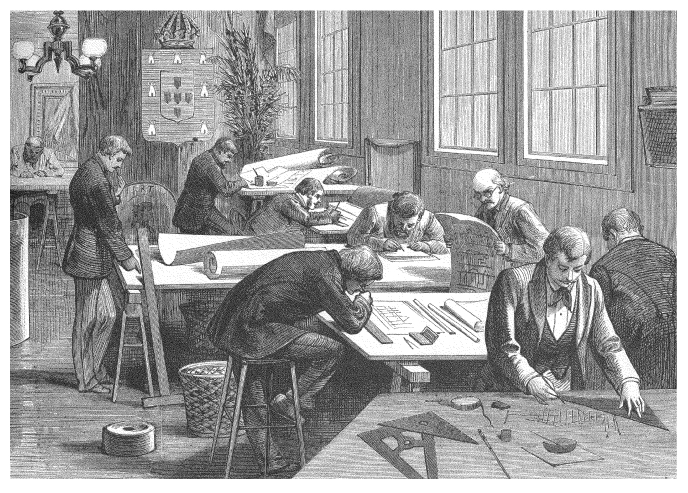
Архитектор — классическая буржуазная профессия, как врач, адвокат, банкир. Но такой профессии в Москве не случилось. Она имеется, но так же мало заметна, как среди строительных компаний частные. Структуру строительного бума и структуру капиталистического города определяют проектные институты, оставшиеся от советского времени. Некоторые из них формально являются частными предприятиями, некоторые — государственными. Но Москомархитектура числила своими подразделениями их всех, независимо от формы собственности. И это правильно. Они одинаково получали заказы, одинаково их выполняли (переводя экономически выгодные проекты в частные мастерские начальников, дублирующие институт) и одинаково их согласовывали (превращая оплаченный через частную мастерскую заказ обратно в работу института). При всем желании определить разницу в стратегиях между ГУП «Моспроект-2» и частным ЗАО «Моспроект-1» не удается.
На каждом своем съезде архитекторы подчеркивали, что делить их на частнопрактикующих предпринимателей и муниципальных служащих некорректно, поскольку все они заняты одним общим делом — строят на благо людям. Утверждение абсурдное в логике капиталистической экономики, где муниципальный архитектор — это госслужащий, занятый совершенно иной работой, чем частник, но для Москвы оно глубоко справедливо. И частный и государственный архитекторы здесь делают одно и то же, но совершенно не то, что призван делать специалист, именуемый «архитектором».
Архитектор в Москве является кем угодно, только не автором. Если речь идет о крупном строительстве, то главное — это согласование проекта, а не его изготовление. В крупнейших вещах — комплекс на Манежной, храм Христа, Гостиный двор, Большой театр — авторство неустановимо в принципе. Кого-то отстраняли (сменились десятки людей), что-то строили, и понять, откуда ноги растут, не представляется возможным. Но и в вещах поскромнее, где автор в принципе есть, он автор в специфическом смысле. Практика, при которой проект в процессе согласований претерпевает радикальные изменения, мешает говорить об авторстве. История с проектом Смоленского пассажа более чем показательна — авторами в результате оказались те, кто занимался согласовательными процедурами, а автор в западном понимании — Риккардо Боффил — предпочел отказаться от авторства[8]. Русский архитектор так бы не поступил, а тихо вписал в авторский коллектив всех, кто согласовывал проект. Примерам такого рода несть числа: если судить по авторским коллективам, все крупные московские архитектурные чиновники отличаются необыкновенной творческой плодовитостью, что особенно удачно, потому что по закону чиновник может заниматься творческой деятельностью и получать за нее гонорар.
Внешне частное здание стоит на частной земле. Реально здание не вполне частное стоит на земле, переданной в аренду государственной организации, которой юридически удобнее выглядеть частной. То бишь правительство некоторым образом берет у себя в аренду землю для того, чтобы оно как заказчик дало себе заказ как подрядчику. Оно же как подрядчик заказало себе как частному архитектору проект и как государственный архитектор его согласовало. И все это вместе — есть строительство капитализма.
О московской архитектуре при Лужкове можно писать бесконечно, но речь идет о градостроительстве. Итак, с одной стороны, у нас были градостроители, которые сочиняли генплан, а с другой — бюрократический капитализм, который реально строил город. Причем забавным образом градостроители руководствовались идеальным либеральным принципом: задаем рамочные ограничения и объявляем внутри них свободу — «разрешено все, что не запрещено». Эту систему они предлагали для сообщества, которое правильнее было бы определить как среднефеодальное. В том смысле, что князь (Юрий Михайлович) и его дружина ощущали себя уже не как участники грабительского похода, они уже сели на землю, но при этом драли с нее нещадно, нимало не заботясь о том, что будет после них, — это как раз характерно для среднефеодальных систем с их неустойчивым институтом наследования.
Что произошло в результате, мы знаем. В Москве возникло пять безнадежных проблем — транспортная, экологическая, энергетическая, социальная (когда горожане реально оказались «обременением актива», то есть территории, с которой, чтобы ее продать, этих горожан необходимо выселить) и культурная (систематическое уничтожение культурного наследия). Причем надо прямо сказать, что эти проблемы не могут разрешиться сами собой, поскольку относятся к сфере общественного блага и бизнес не знает, как на них зарабатывать. Нет бизнеса, который умеет решать транспортную проблему или проблему сохранения памятников. Бизнес по природе тавтологичен — если строительство торгового центра на транспортном узле приносит доход, то строится следующий, потом следующий, пока не встает весь транспорт. Хотелось бы, конечно, получить генплан, в котором какие-то мысли по поводу этих проблем присутствовали, но не вышло. Откровенно говоря, не вышло ничего, кроме капитализации тех градостроительных ограничений, которые ученики Гутнова пытались ввести. Сначала они попросту продавали право на нарушение собственных ограничений, а потом, поскольку товар пользовался спросом, резко увеличили производство ограничений. Крики общественности, что все идет куда-то не туда, им страшно в этом помогали, потому что ограничения получались вроде как общественно оправданными, оставаясь при этом частноторгуемыми. Недавние романтики, сподвижники ушедшего гения, на глазах превращались в неприятных мелких бизнесменов, и это было довольно горько наблюдать.
Но вернемся к градостроительству. Сейчас у урбанистов такая парадигма: мы живем в постиндустриальном веке, веке Интернета, люди могут работать дома, исчезла необходимость в перемещении и концентрации больших человеческих масс, иными словами, урбанистический ландшафт полностью изменился. Идеал — минимум энерго- и ресурсопотребления, жизнь вне города, в своем доме, минимум перемещений, и вообще рассредоточение населения по пустующим областям. Полностью игнорируя эти теории, крупные города растут на 3—5 % в год, люди все больше в них концентрируются, и через 20 лет человечество, по всем прогнозам, окончательно станет городским. Развитость сети, которая якобы дает возможность рассредоточиваться, в городах на три-пять порядков выше, чем в сельской местности, куда все почему-то должны переехать, а постиндустриальная экономика как на грех не растет в местах, где не было индустриальной. Отсюда все большее развитие транспорта, все большая трата ресурсов, колоссальный рост энергопотребления и т. д. Мне кажется, урбанистам имеет смысл все же обратить внимание на реальность, в которой они существуют, — не в смысле, как с ней бороться, а в каком-то другом.
Я бы, честно сказать, предложил обратиться к сугубой эклектике. А именно — пусть градостроительство хоть отчасти отвечает тому социальному строю, который оно обслуживает. Если у нас феодализм, давайте обратимся к феодальному градостроительству. Будем проектировать бурги и замки, соборные, ратушные и рыночные площади, обустраивать пути следования паломников. Если киргизы бегут в Москву, как средневековые крестьяне, которых воздух города делал свободными, то их проблемы не надо решать по лекалам первой половины прошлого века, когда для индустриальных рабочих строилось социальное жилье. Не получится, французы уже пробовали. Программы сохранения памятников малоэффективны в вандальских королевствах. Это идиотизм, нобилитет живет в резервации на Рублевке, и там что ни дом, то городская достопримечательность, но при этом дома никто не может увидеть, потому что туда никто не может попасть. Надо создать для сильных мира сего условия, чтобы они строили в городах. Все палаццо Флоренции и отели Парижа построены представителями элиты — от этого в итоге выиграли все, а не только они (их, правда, впоследствии отчасти повесили на фонарях). Невозможно проектировать новые районы Большой Москвы, опираясь на опыт хрущевских наукоградов — население этих наукоградов неплатежеспособно, все платежеспособные уже оттуда уехали. При абсолютизме бессмысленно бороться с маниакальным стремлением монарха затевать колоссальные проекты и возводить дворцы. Это приведет только к тому, что и дворцы, и большие проекты будут скрыты от людских глаз. Я понимаю, что 20 дворцов Саддама Хусейна — это безобразие. Но проблема Саддама решается не урбанистами, а морскими пехотинцами США. Что примечательно, те после себя оставляют другие проблемы, да еще и руины дворцов.
Понимаю, что мое предложение с обслуживанием строя не пройдет. Потому что позиция настоящего урбаниста — не потакание постыдному настоящему, а проектирование светлого будущего. Урбанистика выросла из индустриализации — до конца XIX века город проектировали архитекторы, но когда возникла необходимость доставить сразу 100 тысяч человек к 8 утра на проходную завода, а еще их накормить, расселить, обеспечить им медицинскую помощь, одеть, обучить их потомство, наконец, похоронить их по-человечески, архитекторы перестали с этим справляться. Урбанистика выросла даже не из самой индустриализации, а из необходимости защитить права этих ста тысяч, ущемляемые теми, кто их не кормит, не селит и не учит. Поэтому она на стороне массы, а не элиты, социологии, а не экономики, тех, кто недополучил в настоящем, а не тех, кого экспроприируют в будущем. Это ее родовая травма, так что урбанистика и дальше будет уходить в отрыв от реальности, и это правильно. Нам же нужны идеалы, которые никогда не будут достигнуты.
[1] Подробнее см.: Ревзин Г. Инноград отдали иностранцам. Коммерсантъ, № 146 (4446), 12.08.2010.
[2] Подробнее см.: Ревзин Г. Здравый смысл в хаосе. Коммерсантъ, № 35 (4576), 01.03.2011.
[5] Гутнов А., Лежава И. Будущее города. М., 1977; Гутнов А. Эволюция градостроительства. М., 1984; Гутнов А. Мир архитектуры: Язык архитектуры. М., 1985; Гутнов А. Города и люди. М., 1993.
[6] Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры: Лицо города. М., 1990.
[7] Подробнее см.: Ревзин Г. Мы дочки твои, Москва! // Проект Классика XIII-MMV — 27.03.2005.
[8] Подробнее см.: Ревзин Г. Французская болезнь. Проект Россия, № 14, 2000.
