Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».
Уважаемые читатели и авторы.
Куда бог смотрит
Куда бог смотрит[1]
Вы должны сообщать правду, только правду, и одну только правду. Но упаси вас Боже сообщить ВСЮ правду.
Уильям Рэндольф Херст
(из поучений молодым журналистам)
Эта акула мирового капитализма была глупа или прикидывалась простоватой: получается, что никто не знает, что есть истина, а Херст — знает.
Автор
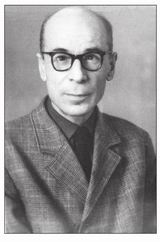
Отец и наша семья
Соллертинский Евгений Сергеевич родился в 1887 году, в 1910 окончил Петербургский университет и, вероятно, не сразу найдя себе применение, год проработал в Одессе. В отделении государственного банка была группа таких высокообразованных молодых людей, которые, сами не производя химического и других анализов, коллективно выносили заключение о подлинности или неподлинности банкнот и ценных бумаг. Работа была почти синекурой: присутствие длилось только четыре часа, и в любой момент можно было спросить себе чашку чая и бутерброд с икоркой или семгой. В 1912 году он получил должность классного наставника в гатчинской гимназии, а в 1913—1914 был в экспедиции по описанию бассейна Ангары, организованной, кажется, Петербургским университетом. Тогда в Иркутске он и познакомился с Михаилом Александровичем Пешковым, еще студентом Иркутского университета, сыном есаула забайкальских казаков.
Женился он в 1913 году на Нине Вячеславовне Дюшен, гимназической подруге своей сестры Александры, которая часто бывала в доме Соллертинских в Петербурге и иногда проводила свои каникулы в Посаде. Дюшены — бельгийского происхождения, русские в двух-трех поколениях. Отец моей матери был генерал, ученый-баллистик.
Я родился в 1914 году, считаю себя русским и, безусловно, являюсь русским, хотя в основном потоке моей славянской крови есть примеси кельтской, франкской, германской и татарской кровей. Брат Женя родился в 1917 году.
По нездоровью отец не был призван на военную службу, и чем он был занят в 1915—1916 годах, я сказать не могу. Но в начале 1917 года он вошел в состав полярной экспедиции, которой должен был руководить В. Ю. Визе. В конце 1917 года экспедиция была уже в Архангельске и стала готовиться к назначенному походу. Трудности военного и революционного времени задержали подготовку, финансирование экспедиции прекратилось, поэтому, когда осенью 1918 года англичане оккупировали Архангельск, члены экспедиции были вынуждены искать себе работу. Отец получил должность инспектора гимназий в ведомстве просвещения новой республики, которой фактически управлял английский губернатор. Все русские работники управления получали обмундирование, паек и жалованье наравне с английскими военнослужащими; я помню отличную, странного фасона шинель, подбитую мягкой овчиной, и собачий треух, привезенные отцом из Архангельска и еще долго служившие ему в нашей последующей бедности.
Фронты Гражданской войны начисто прервали все связи с Петроградом, и члены экспедиции не имели сведений ни о подлинных событиях революции, ни о своих близких, оставшихся в Петрограде, где царили голод и разруха. Они собрали собак, нарты и возможное количество продовольствия и подготовили побег, который стал возможен зимой 1920 года. Это были отважные и умные люди. Они не взяли с собой никакого оружия, даже избранный ими руководитель не имел револьвера.
Точного маршрута их продвижения на юг я не знал, но он проходил восточнее железной дороги, в обход возможных выступов онежского и карельского красно-белых фронтов.
Обожженные морозами, обросшие и утомленные недосыпанием и голодом, недели через две они были захвачены красными на подступах к Вологде. Оружия при них не было, сразу их не расстреляли, но через несколько дней, уже в вологодской тюрьме, расстрел им был объявлен. Что-то не сработало в расстрельном механизме — может быть, взял свое здравый смысл — но скоро их определили на заготовку дров для вологодских учреждений. Летом 1921 года они работали на разборке старой пристани на реке Вологде. Истощенные голодом, они работали под теплым летним солнцем полуобнаженными и являли вид такого измождения, что вызывали сочувствие горожан. Простота провинциальных нравов и отсутствие жестких инструкций позволили сочувствующим подкармливать арестантов картошкой и рыбой, чего даже тогда в Вологде было достаточно. Так там появилась девушка, избравшая объектом своего милосердия моего отца. Скоро она стала появляться на пристани каждый день, они подружились, и отец рассказал ей о своей тревоге за семью в Петрограде. Он дал адреса, туда пошли письма, но почта почти не работала тогда, письма шли с оказиями, не всегда верными, и выяснение обстоятельств семьи отца заняло долгие месяцы. Но к концу года уже стало известно, что мать умерла, а мы с братом находимся в таких-то детских домах.
Вскоре отца отпустили (я не знаю ни причин, ни условий этого), и он поселился в доме, принадлежавшем семье этой девушки. Они полюбили друг друга и договорились о свадьбе. Но еще до свадьбы она привезла нас с братом в Вологду, и я помню этот переезд. Я был голоден, а у Марии Павловны, как звали эту девушку, был хлеб и селедка, которыми я наедался до того, что засыпал от сытости, а проснувшись, опять ел. Но в промежутках я, стоя у широких дверей теплушки, впервые увидел широкую землю, полную света, зелени трав, запахов воды и леса. И тогда уже я принял эту землю как свою, конечно, не зная об этом.
Раннее
Я помню себя с около трехлетнего возраста, хотя, как и у всех, первые (очень яркие) картинки воспоминаний разрозненны, не связаны единым сюжетом, если не иметь в виду, что сюжет, их связывающий — начало становления сознания,
1916—17. Играю с оловянными солдатиками на широком подоконнике открытого окна, кто-то держит меня. В конце улицы появляется процессия поющих людей со знаменем; в другой конец улицы врывается группа конников с обнаженными шашками. Окно закрывают, часть солдатиков падает за окно. Жаль моих солдатиков.
Сижу на полу на мягком зеленом ковре, прислонясь к тяжелому кожаному креслу. Мимо меня ходит человек в блестящих сапогах и белом кителе. Он что-то говорит сидящему за большим столом, но с моей позиции этот собеседник не виден. Наверное, Павел приехал с фронта.
1917. Мать сидит на диване, обитом шелком с голубыми цветами, держит у груди белый сверток. Она что-то говорит, и я через громадное пространство голубого ковра подхожу к ней. Она нацеживает в ладошку немного своего молока и дает это молоко мне. Внимательные серые глаза под короной рыжих волос. Ощущение совершенной гармонии существования.
Сижу за столом, покрытым белой скатертью; по обе стороны стола стоят темные резные стулья с прямыми спинками. Очень хочется есть. Мать разворачивает бумажный сверток и отрезает мне кусок хлеба. Кусок небольшой, острые овсяные отруби торчат из него, но пахнет он восхитительно. Съедаю все, хотя горло оцарапано отрубями.
Затем столь же разрозненные картинки моего недолгого беспризорного существования. Ночевки в вонючем и холодном асфальтовом котле, драки из-за какой-то еды с такими же, как я, радость, когда мне попалась длинная и толстая кожура от репы, лежавшая на булыжной мостовой.
Потом — детский дом, оставивший более связные воспоминания. Тут все мы, ребятишки, были почти чистыми (вшей, во всяком случае, не было уже), нас регулярно кормили, хотя есть хотелось все время. С нами занимались девушки, наверно, гимназистки старших классов — я помню их гимназические форменные платья. Попав в детдом в трехлетнем возрасте, я в пять уже был научен читать, и помню себя читающим «Крокодила» Чуковского тем, кто еще не умел читать. Быт в таких домах описывался много раз, и эти описания могут быть отнесены и тому детскому дому, в котором был я.
Вологда
Офицеров, отец Марии Павловны, умерший незадолго до революции, был представителем могучей шоколадной фирмы Жорж Борман на всем северо-востоке России. Другие подобные фирмы были менее мощны (Эйнем, Сиу), и представитель Ж. Бормана в Вологде имел очень порядочные доходы: ему принадлежал отличный дом на двенадцать комнат, еще один двухэтажный доходный дом, хорошо обустроенный двор с конюшнями, сараями и прочим.
Две комнаты и бывший кабинет отца Марии Павловны были предоставлены молодой семье. В доме был рояль и довольно большая библиотека, в которую я сразу по приезде вник. Кроме того, что было в библиотеках всех провинциальных интеллигентных семей (полные издания А. Ф. Маркса сочинений Шеллера-Михайлова, Боборыкина, Писемского и т. д.), были отличные издания наших и не наших классиков, почти все издания «Знания» (Ранке, Сиверс, Свен Гиден и проч.), много исторической литературы, книг по биологии, географии, другим разделам науки. Были там и прекрасные издания детской литературы Кнобеля и еще одного издателя, имени которого сейчас не припомню. Качество этих изданий было наивысшим из возможного, и подобных изданий я после уже никогда не видел. (Да, имя второго издателя роскошных детских книг — Девриен.) Мне было разрешено брать и читать любую из книг с любой полки, только ставить их на место и быть осторожным с толстыми книгами: том «Знания», толстый, на плотнейшей бумаге, мог не только отдавить ногу, но и серьезно прибить. Я читал много и без выбора, по крайней мере разумного. Так оказалось, что я до сих пор могу описать технологию посадки на кол или порядок пользования гарротой (трактат «История смертной казни») и знаю кое-что о жизни Леонардо по известному трактату Вазари. За стол меня сажали на обычный стул, но подложив под меня толстенную Библию в роскошном издании с иллюстрациями Гюстава Доре, и после еды я рассматривал картинки и читал куски из вечной книги. Еще с тех пор остались в памяти события жертвоприношения Авраама, судьбы жены Лота, смутные и страшные сцены Апокалипсиса и гравюры Доре: осоляневшая жена Лота, Конь Блед рвущийся через всю страницу над головами обезумевшей толпы.
Очень скоро отец полностью вошел в культурную и научную жизнь Вологды. Последовательно и одновременно он был деканом в Молочном институте, учреждении и сейчас имеющем международный авторитет, профессором педагогического института, принимал деятельное участие в работе краеведческого общества, сотрудничал в журнале этого общества. В 1922—23 годах он организовал летние экспедиции по биогеографическому исследованию Кубенского озера. Он стал популярным в городе, да и не только в городе: к нам приезжали такие известные люди, как профессор Визе, академик Комаров, ботаник с мировым именем, потом — президент АН и другие ученые из наших столиц. Раза два в неделю у нас бывали вечера (очень скромные по оформлению — время было голодноватое), на которых собиралась местная интеллигенция. Отец много и увлеченно работал и, наверное, порядочно зарабатывал. Но деньги тогда едва ли стоили той бумаги, на которой их печатали, и когда отец привозил на извозчике свою получку (небольшой мешок купюр), мать брала Аннушку, нашу домработницу, прихватывала меня, и мы отправлялись на рынок: надо было деньги израсходовать немедленно, завтра на них нельзя было бы купить и половины того, что купишь сегодня. Правда, благодаря давним и прочным связям Веры Матвеевны, матери М. П., с пригородными крестьянами у нас не было острой нужды в продовольствии, и эти экспедиции на рынок были только подспорьем, хотя и серьезным, в обеспечении той относительной сытости, в которой жила семья. В свое свободное время, которого у него было очень немного, отец ходил с матерью в театр или на концерты (все это тогда начинало становиться на ноги), играл на рояле. В один из концертов попал с отцом и я. В тот раз выступал Л. С. Термен со своим, тогда первым в мире, радиомузыкальным инструментом — терменвоксом, голос которого, чистый и нежный, с тембром, напоминавшим о музыке XVII—XVIII веков, я слышу и сейчас.
Отец позаботился о том, чтобы определить меня в школу, и, ориентируясь на знакомые ему гимназические программы, подготовил меня к этому. Но оказалось, что в этой подготовке мы прошли не только программу первого класса, но и прихватили часть программы третьего класса, и после свидания с директором школы я был отпущен к своим играм с соседскими ребятами и братом, к своему вольному чтению.
В конце 1923 года вся эта жизнь и напряженная деятельность кончились в одночасье: отца отправили в ссылку в Нарым на три года. Ни причины, ни повода к этому я не знаю, разве что вспомнился грех службы у белоангличан: хоть и инспектором гимназий, — но служил же!
На X съезде партии (1922 г.) было решено закрытие всякой фракционной борьбы, и меньшевики были отстранены от партийных дел, началось их исключение из партии. Но вне партии были еще эсеры разного толка, остатки кадетов, анархистов и прочие неправоверные. Вот они-то и пошли в ссылку, которая сначала питалась меньшевиками, потом левыми эсерами, потом просто эсерами и т. д. Ни в какую из этих категорий отец не входил: он был принципиально беспартиен; любую догму он считал вредной и опасной, связывающей свободу мысли и дела, по всем вопросам он вырабатывал собственное мнение, причем во всех политических и экономических вопросах им руководил патриотизм, тот патриотизм, который обходится без восклицательных знаков в речах и требует дела на пользу России.
Кубенское озеро
Что есть истина, знают только Бог и дурак.
Но Бога, кажется, нет на свете, зато дурак могуч,
распространен и всепроникающ. Поэтому,
если вы — как и Автор — не знаете, что есть истина,
— всегда рядом будет некто, кто сможет разъяснить
этот вопрос. Речения специализировавшихся на постоянном
разъяснении истины вызывают наибольшие сомнения.
Автор
В 1922 и, кажется, в 1923 годах отец организовал летние экспедиции по биогеографическому описанию этого озера. Оно расположено километрах в 60 севернее Вологды, протянулось на 60 км от ЮВ на СЗ, имеет ширину до 12 км и небольшие глубины, не превышающие 10 м. У юго-восточного берега его есть единственный на озере остров, не заливаемый во время весенних паводков — Каменный остров, размером всего метров 200 на 300. Тут еще в 1260 году был построен монастырь, конечно, деревянный, который много раз был разрушен (вогуличи, вятичи, татары, усобицы русских князей, ледоходы) и окончательно укрепился в XV или XVI веке, когда его отстроили из местного камня и кирпича. Храм, колокольня и трехэтажный корпус для братии были объединены в один блок, почему строение довольно большое заняло на острове немного места.
Издали казался он белым кораблем, плывущим к вечному свету, из вечности в вечность, и потому неподвижным. Звон его колоколов на десятки километров разносился над тихой водой.
Когда в 30-х крушили повсюду церкви, монастырь был разрушен, но колокольня почему-то сохранилась и сейчас торчит над озером, как сухостойное дерево над болотом.
На Каменном острове и была база нашей экспедиции, разместившаяся в гостинице для паломников, довольно большом казенном доме рядом с монастырем. В команду отца входили мать и два здоровых работящих студента из Вологды. Мария Павловна окончила Высшие женские курсы в Петербурге и была биологом, специализировавшимся в ботанике. Быт был организован очень просто: по договору с отцом Павлом, настоятелем монастыря, человеком мудрым и добрым, мы получали ту же еду, что получали монахи, иногда разнообразившуюся дичиной или рыбой, которую отец привозил из дневных изыскательских поездок по озеру, прочее все делалось своими руками.
Ежедневно, ранним утром, кроме уж очень ненастных дней, отец со своей командой уходил в озеро на большой лодке, оборудованной швертами (бортовыми килями) и парусом. До их возвращения я был предоставлен самому себе. Купанье, постройка плота, плавание вокруг острова на этом плотике, запуск корабликов, которые я делал вместе с двумя послушниками, исследование храмов, чтение — я не скучал и не бездельничал. Если день был тихий, команда с озера возвращалась поздно, и я шел в трапезную избу, садился в кругу монахов и деревянной ложкой хлебал с ними из общей глиняной миски постные щи или похлебку из сушеной рыбы — смотря по тому, какой был день: постный или скоромный.
О. Павел причастил меня по всем правилам, рассказывал из Священной истории, читал мне из Евангелия и подарил иконку старинной работы, которую велел повесить в изголовье кровати, но я повесил ее в изножии: открыв утром глаза, я сразу встречал добрый взгляд святого.
После возвращения с озера команда немного отдыхала, затем начиналась обработка привезенного материала, в которой участвовал и я: размещение проб планктона по бутылочкам с формалином, иногда — подсчет живности под микроскопом, промывка и сушка инвентаря.
В заботе о моем просвещении отец взял с собой порядочно книг для меня, но я прочитал только «Географию» Лесгафта, гимназический курс географии, на остальное желания или времени не оказалось. Зато я, как уже говорил, много беседовал с отцом Павлом и другими монахами, большею частью глубокими стариками с желтыми бородами, кое у кого даже зеленоватыми. Отец был атеистом по убеждениям, но веру и верующих глубоко уважал, такое же уважение к этому институту передал и мне; беседы с монахами уважение это еще укрепили.
Отец много рассказывал мне о жизни вод и земли, под микроскопом я видел своими глазами невообразимую сложность жизни, представленную обычным пресноводным циклопом. Не раз я бывал с ним в коротких рабочих поездках по озеру, и глубокое летнее небо, простор воды и вольный ветер над ним восприняты были мною не как фон жизни, а как содержание ее. И все это отложилось в сознании как символ родной земли, что, конечно, я понял только много лет спустя.
Когда так неожиданно отец был отправлен в ссылку, мать сразу стала собираться вслед за ним. Для переезда требовалось иметь 5—6 миллиардов рублей, и мать — финансист совершенно ничтожный, принялась сортировать имущество: что продать, что взять с собой, что оставить на потом, когда вернемся. Новый рубль был уже введен, но и старые деньги были еще в ходу, и она маялась с миллионами и миллиардами, не в силах справиться с переводом их в новый курс. Когда мы, наконец, отправились, сколько помню — главным грузом в нашем багаже были несколько ящиков с книгами. Были мы бедны, ехали в товаро-пассажирских поездах до Томска, потом палубными пассажирами на пароходе 300 км вниз по чистой и зеленой Томи и мутной и полноводной Оби.
Колпашево
Обь — одна из великих рек Земли. Она длиннее Волги и раза в три многоводнее нее. Против Колпашева ширина реки около двух километров, а глубины достигают 20 м. Правый берег реки высокий — до 15 м и, сложенный из суглинка, все время подмывается рекой по Бэру-Кориолису, и село все время отступает внутрь страны, время от времени строя новые улицы там, где еще несколько лет назад был лес. А леса простираются на многие сотни километров во все стороны. Дорог в крае тогда совсем не было, пути сообщения немногочисленного населения лежали только по рекам, летом на лодках, зимой — по льду на лошадях. Коренное население тогда именовалось остяками (на самом деле несколько древних племен, в том числе и автохтонных), жившими в небольших деревнях по берегам рек или на заимках в лесах. Они промышляли рыбу и зверя, иногда занимались и хлебопашеством, особенно если жили в русских селах; для русских хлеб и скот были основным занятием, а охота и рыболовство были промыслами вспомогательными. Земли здесь бедные, урожаи невысокие, поэтому для русских промысел зверя и особенно рыбы имел значение серьезное: зимой уходили обозы с рыбой в Томск, откуда привозился недостающий хлеб. Отношения между русскими и остяками были взаимно-уважительными, ни о каких межнациональных конфликтах мне слышать не приходилось, хотя в разговорах русских мужиков и прослушивалось что-то снисходительно-презрительное в их отношениях к нехристям: остяки были язычники, и самым уважаемым человеком племени был шаман.
Колпашево тогда было большим селом, протянувшимся на 2,5—3 км вдоль реки двумя-тремя улицами. В центре его, где берег был пониже и не подмывался паводковыми водами, была церковь и с десяток двухэтажных кирпичных домов, раньше принадлежавших местным купцам, а теперь занятых государственными учреждениями и квартирами районного начальства. Крестьянские дома были просторны и построены добротно, иногда и двухэтажными. Нуждающихся в селе не было: хлебопашество, охотничий промысел и рыбная ловля гарантировали крестьянам совершенно обеспеченное существование, конечно, за счет непрерывной работы, в которой участвовали все работоспособные члены семьи. На все село было только два-три батрака, люди леноватые и пьющие.
Ссыльных в селе было, наверно, сотни две — две с половиной. Они группировались по конфессиональному признаку и самыми крупными были группы меньшевиков и эсеров. Было среди них какое-то количество анархистов, кадетов и других, тонкие подробности убеждений которых я не мог уловить. По непонятной причине так сложилось, что меньшевиками были в большинстве евреи и грузины, эсерами — русские, а анархисты были только русскими. Обычными были шумные дискуссии между представителями разных конфессий, особенно между меньшевиками и эсерами, вероятно, совершенно бесполезные; вера, являющая основанием партийной принадлежности, не может быть опровергнута доводами логическими.
Мы жили в маленькой избушке, против которой был большой двухэтажный дом, весь верхний этаж которого был занят меньшевиками. Летом дискуссия между меньшевиками и эсерами, собиравшимися здесь, к вечеру часто переходила в перепалку, уже очень слабо насыщенную логикой, и мне приходилось наблюдать, как группа эсеров на лужайке перед домом переругивалась с меньшевиками, высунувшимися из окон. Дело доходило до поношения фундаментальных святынь противника («этот ваш пудель со своими абстракциями», «этот ваш разбойник интеллигентный в черной шляпе, ему бы с ножом под мостом стоять»), а еще спустя — и до личностей. Отец, как я уже говорил, принципиально беспартийный, к этим дискуссиям относился брезгливо («так всю революцию и проболтали, идиоты») и, конечно, никогда в них участия не принимал.
В таких обстоятельствах у отца не могло быть много друзей среди ссыльных, однако то небольшое количество людей, с которыми отец сблизился, отобралось не по партийному признаку или национальности. Еврей Диканский (меньшевик), эстонец-националист, фамилию которого я не припомню, Михайлов, русский эсер, еще меньшевик Тохадзе (грузин), несколько других ссыльных и один из самых умных и добрых людей, каких мне приходилось встретить в жизни, остяк, старик-охотник, специализировавшийся на медведях. Обычай разрешает добывать человеку только сорок медведей, а этот новатор презрел обычай и завалил своего сорок первого медведя. Он обошелся ему в полскальпа, потерю глаза и повреждение в колене, из-за которого он сильно хромал. Тут надо сказать, что остяки ходили на медведя только с большим ножом, и каждая такая близкая встреча с сильным зверем была опасна для охотника. Старик часто бывал у нас, пил чай и много рассказывал о жизни своего охотничьего племени. В сюжетах этих рассказов были река, лес, рыбы, звери, охотники и птицы. Но содержанием их всегда была жизнь природы, единая и неделимая, в которой человек был отнюдь не хозяином, но только партнером всего прочего живого. Причем живыми были и река, и лес, и ветер.
К нашему приезду отец устроился на работу в качестве бухгалтера в «Загот-хлеб», хотя о бухгалтерии имел представления самые общие. На собеседовании, он говорил, он блеснул несколькими итальянскими словами, объяснил пользу двойной бухгалтерии, изобретенной в старину итальянцами, и был принят временно, до приезда ожидавшегося из Томска специалиста. Мать получила работу учительницы в школе на неполный день, была нанята избушка для жилья, заготовлены дрова, и мы оказались неплохо обеспеченными, тем более что отец начал заниматься рыбной ловлей, в которой и я принимал полное участие. Рыбы тогда было много, и наша рыбалка только на крючковую снасть давала столько рыбы, что хватало и нашей семье, и оставалось для раздачи нуждающимся.
А нуждающихся было много. Только меньшевики (или евреи и грузины?) регулярно получали посылки и деньги от своих близких, остальные регулярной помощи не имели, а многие вынуждены были существовать только на ничтожное пособие, которое выдавалось безработным, едва достаточное для покупки только необходимейшей еды. Ссыльные, люди в большей части высокоинтеллигентные, не гнушались никакой работой, плотничали, пилили дрова, составили рыболовную артель (бедствовавшую из-за отсутствия средств на покупку сетей), делали любую случайную работу, но случаев такой работы было немного: село жило почти в условиях натурального хозяйства и всю необходимую работу крестьянские семьи делали сами.
Наша семья была сыта, зарплата отца (25 руб. в мес.) и приработок матери давали для этого достаточные средства, но одежда наша была старенькая, вся в заплатах, а обувались мы в чирки, мягкую кожаную обувь местного изготовления. Мать скоро научилась печь превкусный ржаной хлеб в русской печи, молока было достаточно, всегда была свежая, соленая и копченая рыба (я приспособился коптить ее в трубе печи), остальное уже можно стало купить в деревенской лавке или прямо у крестьян — нэп вошел в силу, — были бы деньги.
Время от времени отец приглашал к нам своих друзей, которые по какой-то случайности все были из бедняков, мать выставляла на стол большую сковороду жареной рыбы и круглый каравай своего хлеба весом килограмма в три. И я, уже имевший порядочную тренировку в голодании, видел, что эти люди не каждый день едят досыта: вся эта еда за полчаса исчезала, хотя едоки и сильно стеснялись, особенно стеснялся беловолосый молодой анархист, человек тихий и скромный. Вообще анархисты, по моим воспоминаниям, были люди порядочные и скромные.

Со своим делом в конторе отец освоился быстро и был по-настоящему занят только в отчетный период, на стыке месяцев. В другие дни он приходил домой после полудня, и мы отправлялись на рыбную ловлю. Поездки эти были для меня продолжением вхождения в природу, начавшегося еще на Кубинском озере, но Природа, открывшаяся мне здесь грандиозной рекой, лесами, имевшими границы только вообразимые, богатством и разнообразием живности, шаг за шагом открывавшиеся мне в рассказах отца природные связи, — все это, да еще под влиянием того, что говорил мне о жизни реки и леса старик-остяк, все это стало Природой, в которой мне оказалась отведена роль мелкой и не самой значащей частицы. «Мыслящий тростник», — как я был поражен и восхищен, когда после-после прочитал это!
Через полгода ожидавшийся из Томска специалист-бухгалтер приехал, и отец лишился своего заработка, но мать продолжала работать в школе, так что в совершенную бедность мы не впали, хотя и сильно нуждались. Вскладчину с кем-то из ссыльных отец купил местную долбленую лодочку — обласок, и мы с ним всерьез занялись рыбной ловлей, стараясь заготовить рыбы и на зиму. Рыбу солили и вялили, но запас все не получался достаточным, поскольку всегда было необходимо кому-то помочь, а взаимопомощь бедных — закон, от которого никто не мог и подумать уклониться.
А на входе в зиму отца досослали в маленькое село Тогур, километрах в десяти от Колпашева. Причины или повода к этому я не знаю. Скорее всего это была случайность, какая бывает с людьми, собранными в толпу по внешней причине (арестанты, толпа на улице в час пик, солдаты...), хотя, наверное, и был какой-нибудь импульс, например, донос.
Незадолго до этого родилась сестра Нина, и мать лишилась своей работы в школе: тогда о декретных отпусках, да еще оплаченных, мы еще не слышали. Отцу стали выдавать пособие по безработице — 6 руб. 30 коп. в месяц, чего и на хлеб хватить не могло. Возможно, оставшись в Колпашеве, мы и перебились бы зиму за счет соседской и земляческой помощи, но в Тогуре было всего несколько семей ссыльных, тоже бедняков, и тут мы не только нуждались, но стали попросту голодать: хлеб, молоко и картошка в количествах ограниченных, только с выдачи, ни куска мяса, масла, сахара. Мы с братом ослабли, у меня начались лишаи, его мучили чирьи. У нас уже не было сил кататься с горок и играть с местными ребятами. Когда в меню случался налим, рыба тощая, по здешним обычаям годная только для собак, мы с братом, в момент съев свои порции, сгрызали и кости.
Комната наша занимала большую мансарду над богатой крестьянской избой, проходивший через нее широкий дымоход русской печи хозяев обогревал помещение, поэтому у нас всегда было тепло, но на керосин для лампы зачастую денег не было, и мы сидели вечерами в темноте, беседуя и слушая рассказы отца о природе и его путешествиях. Когда был свет, заходил к нам Ратнер, тоже дососланный в Тогур, и они с отцом играли в шахматы, или я читал по толстой книге партии, а они обсуждали шахматную классику. Ратнер был тонким интеллигентом, человеком высочайшей культуры, и его беседы с отцом касались широкого круга вопросов. Он был очень беден, существовал только на пособие, и когда его удавалось уговорить выпить чаю (иногда морковного), он вынимал из кармана небольшой кусок хлеба и пил чай с этим хлебом. С тех пор я запомнил имена Морфи, Чигорина, Ласкера, Алехина, Тартаковера.
Однажды мать пристроила меня в какую-то группу местных школьников, которая должна была пойти в гости в школу соседней деревни, расположенной в нескольких километрах от Тогура. Она надеялась, что там нас угостят чем-нибудь, и не ошиблась: нам дали сладкого чая и по несколько крупных баранок — лакомство, о каком я почти и не знал. Мы проходили мимо сельсовета, я увидал красный плакат, окаймленный черным, прикрепленный к стене дома. Плакат сообщал о том, что вчера умер товарищ Ленин.
На другой день у нас собрались несколько ссыльных и обсуждались перспективы возможных изменений в нашей судьбе. Общее мнение было таким, что скоро должны были бы произойти решительные перемены в положении и количестве ссыльных, что возможна вообще ликвидация ссылки и других инструментов репрессии. Отец был настроен скептически, говорил, что аппарат государственного принуждения не может обойтись без такого инструмента. И потом, уже по моему личному опыту, я не раз наблюдал, как изменение какого-то персонального списка вызывало вспышку надежд арестантов (а иногда и не только арестантов), как говорилось: «вот теперь-то уж...», но все оставалось по-прежнему. Времена меняются очень медленно, я в этом убедился совсем недавно на материале происшествия с потерей моей первой рукописи.
Нужда и просто голод стали условиями существования нашей семьи, Я понемногу таскал сушившееся на печи хозяев зерно, и мы с братом грызли его, никак не обрабатывая: оно несколько утоляло голод и служило источником витаминов, почему казалось очень вкусным.
Еще в начале зимы отец написал несколько писем и сходил с ними в Колпашево, чтобы отправить их с оказией, очевидно, не доверял почте, хотя она уже и наладилась, а может быть, желая обойти цензуру. Действие этих писем сказалось в конце зимы и оказалось чудодейственным. Я не знаю, кому писались письма: у отца было много близких знакомых и даже друзей в научном мире, в том числе и академик В. Л. Комаров, потом много лет бывший президентом АН.
Вдруг пришла бумага из такой высокой инстанции, что районное начальство прислало ее со специальным гонцом, доставившим также и распоряжение о немедленном выполнении содержавшегося в бумаге приказа.
Уже через несколько дней мы вернулись в Колпашево, и отец приступил к постройке метеостанции, которую потом он же и должен был вести. К тому времени, когда грунт оттаял, все аппараты поступили, и заготовки для будок и ограды были сделаны. Были наняты рабочие, конечно, ссыльные, и на бугре около центра села, где не было опасности подмыва рекой, появилась легкая светлая конструкция метеостанции.
Мы поселились в большой избе, где было две комнаты и кухня с русской печью, и отец начал регулярные наблюдения на станции. Большой старинный ртутный барометр висел в одной из комнат, тут же стоял стол с журналами наблюдений и бумагами отца, наблюдения делались три или четыре раза в день и затем, зашифрованные специальным кодом, отправлялись по телеграфу в Томск.
Зарплата отца и небольшой приработок матери, которая опять поступила учительницей на неполный день, составили сумму, о какой не мог и мечтать обычный ссыльный. Мы скоро отъелись, одежда обновилась, хотя и осталась самой простой. Меня опять попробовали определить в школу, но и на этот раз я оказался развитее, чем полагалось для класса, где мне следовало быть по возрасту. Кроме того, деревенские ребята не прощали мне моего всезнайства: я отвечал на все вопросы учителей, и спрашивали меня только тогда, когда никто из класса ответить не мог. Тощему, плохо одетому косоглазому чужаку при всяком удобном случае доставались тычки и побои, на которые он и ответить-то не мог. Так я остался опять на воле. Брат тоже опередил свой возраст по знаниям, особенно по арифметике, которую он изучил не хуже меня, с азартом играя в бабки, в которых он был местным чемпионом. Его в школу и не посылали.
Отец научил меня чтению показаний приборов на метеостанции и много рассказывал о механизмах климата и погоды. Он стал поручать мне наблюдения, чаще — утренние, когда ему не хотелось подыматься из теплой постели. Я быстро пробегал километр до станции, приносил отцу запись показаний приборов, он их шифровал, и я тут же бежал на телеграф, расположенный невдалеке от дома. Потом он стал поручать мне и наблюдения в другие сроки, и я, набравшись опыта, не всегда бывал на станции, а давал свою экстраполяцию предыдущих данных. Наверное, я это делал достаточно точно, поскольку ни разу не был пойман на обмане отцом, и вред, принесенный этим нашей метеорологии, не был заметным.
Появились опять книги, наши вологодские и другие, отец занялся со мной математикой, которой пытался заняться еще в Тогуре, но там ничего не получилось: несмотря на подзатыльники, не шла она мне в голову, может быть, из-за голода. Тут дело пошло получше, и мы прошли хороший кусок школьной алгебры.
Отец много играл на рояле у Диканского, обеспеченного ссыльного, у нас собирался небольшой шахматный кружок, вместе со мной он часто ездил на рыбалку с ночевкой на берегу какой-нибудь старицы.
Ссыльные к этому времени устроились как-то получше, чем в начале: нэп открыл возможности кустарной работы и приличного заработка для рукодельщиков. Обнаружились портные, сапожники, слесари, хотя многие из них были все-таки адвокатами, экономистами, инженерами. Нашелся даже армянин-кондитер, торговавший мороженым. Мороженое было отличным, деревенские ребятишки тащили свои пятаки, ссыльные тоже по возможности покупали его, хотя и посмеивались: за отсутствием другой посуды армянин пользовался ночными горшками, завезенными в сельскую лавку и, конечно, не пользовавшимися спросом у деревенских жителей.
Общее количество материальных благ, достающихся ссыльным, увеличилось и через каналы взаимопомощи распределилось так, что голодающих уже не стало, хотя нуждающихся было порядочно. Кроме того, стала почти регулярной помощь, оказываемая ссыльным комитетом Екатерины Пешковой, жены Горького. Комитет этот не вмешивался в дела юридические и юридической помощи не оказывал, но собирал добровольные жертвования, посылал их в распоряжение выборного комитета ссыльных, который распределял эту помощь по своему усмотрению. Партийность или национальность получателя такой помощи не имели значения, дело было только в степени нужды. Так, в Тогуре и нам однажды выпала посылка Комитета, в которой оказался чуть ли не целый окорок, хороший кусок масла и желтые пахучие ботинки, доставшиеся мне, — первые настоящие ботинки в моей жизни. Комитет ссыльных, распоряжавшийся этой помощью, видимо, был составлен из честных людей: мне не приходилось слышать о каких-нибудь хищениях или предпочтениях (блате, как потом говорилось в таких случаях).
В конце 1926 года отец опять засел за письма, которые на этот раз шли обычной почтой: он искал себе место жизни и работы после приближавшегося конца ссылки. Весной 1927 года он из нескольких вариантов, предложенных ему, выбрал Верхнеудинск в Забайкалье, центр Бурят-Монгольской АССР, куда он был приглашен в Госплан для работы по природопользованию.
Он уехал в начале лета 1927 года, оставив на метеостанции мать, и уже через неделю сообщил, что удовлетворен условиями жизни и работы, и что скоро пришлет нам денег на переезд.
А еще через неделю пришли и деньги в сумме, которая после нашей столь долгой и глубокой бедности показалась астрономической. Мы скоро собрались и на большом двухпалубном пароходе, в роскошной каюте первого класса с кожаными диванами и бронзовыми штуками (а не палубными пассажирами, как мы ехали в Колпашево) отправились вслед за отцом.
Верхнеудинск
Очень трудно, братцы, пишется. Тени прошлого
просвечивают через настоящее, иногда эти призраки
актуализуются в сегодняшних делах и размышлениях,
и начинаешь путаться во временах и событиях.
Автор
Удинский острог, или Удинское зимовье, был основан в 1666 году последователями Ермака, но не из группы Е. П. Хабарова. Стоит Верхнеудинск (сейчас Улан-Удэ) при впадении горной реки Уда в Селенгу, реку широкую и многоводную, текущую из монгольских степей. Ко времени революции город стал важным торговым центром на путях из Китая в Россию и местом сосредоточения товаров, обменивавшихся здесь на продукты местных промыслов: хлеб, мясо, рыбу, шкуры, золото.
Хлебом занимались главным образом русские, процентов 30 из которых были старообрядцами (по-здешнему — семейскими), потомками тех, кто в XVI—XVIII веках ушли от гонений из России, скотоводство же было промыслом бурят, ведших кочевое или полукочевое существование. Эти промыслы, технология которых устоялась за столетия, были высокотоварными: здешняя пшеница своим качеством славилась в России и шла в большом количестве на экспорт, а прочими продуктами питания питалась громадная округа, включая и Якутию. Здесь были купеческие фамилии, ворочавшие многомиллионными капиталами, вроде Второвых, монополизировавших скупку золота и мехов, и купцы помельче, но тоже миллионщики, как Иохвидов (продовольственные товары).
Во время нэпа город вернул свое прежнее значение торгового центра, конечно, уже без купцов-миллионеров. Но на богатейшем здешнем рынке и в конторах новых торговцев заключались сделки, вероятно, не менее крупные по суммам, чем до революции. Мелкая торговля была в руках китайцев, они же вели и огородное дело, одновременно промышляя контрабандой. Строительные дела были в руках подрядчиков, артели которых работали быстро и чисто. Было много мастеров-одиночек, все мелкие ремонтные работы, вставку стекол, шитье по заказам, починку сапог и т. д. делали такие мастера. Все эти дела, столь хлопотные сейчас, не требовали стояния в очередях, хождений с накладными, а просто исполнялись в срок и чисто по вашему заказу. В магазинах (тогда говорили — в лавках), занимавших торговые помещения старых купцов в центре города, был выбор товаров не худший, чем в самых хороших магазинах Москвы и Ленинграда. В этих магазинах вас встречали подтянутые и вежливые приказчики, встречали как желанного гостя и старались, не без успеха, продать вам товара побольше и получше качеством, а значит — и подороже. Деньги вполне выполняли свою роль универсального товара, и, имея деньги, вы могли купить и фунт мяса на щи, и стадо коров для того, чтобы открыть колбасное производство.
При таком общем достатке в товарах и трудовых ресурсах условия существования населения города были очень разными. Мелкие служащие и неквалифицированные рабочие зарабатывали мало и мясо во щах имели не каждый день, квалифицированные работники всех специальностей зарабатывали неплохо, хорошо питались и одевались. Но были и безработные, люди приезжие или местные, но не квалифицированные или известные как неважные работники. Их небольшая группа всегда была утром у биржи труда, куда приходили подрядчики и горожане для того, чтобы нанять рабочих на случайные работы. Пособие по безработице было ничтожным, и условия жизни этих людей были ниже того, что сейчас именуется уровнем бедности в Америке. Мастера-одиночки (стекольщики, часовщики, портные и прочие) обычно зарабатывали хорошо и ни в чем не нуждались. Если, конечно, не пили, а пили тогда тоже порядочно.
Город расположен в узкой долине, вымытой древней Удой, и частью своей поднялся и на высокий ее правый берег. Центр города расположен в низине, вдоль берега Селенги, параллельно которому проходят и главные улицы города, на которых разместились старинные каменные дома, сейчас заселенные учреждениями и магазинами.
Для нас отец снял второй этаж дома бывшего купца Йохвинова, где были три небольшие комнаты и прихожая, куда вела лестница из холла в нижнем этаже. Тут, видимо, помещались спальни семейства купца, а нижний этаж был парадным: там были высокие потолки с лепниной, паркет в гостиной и т. д. Весь нижний этаж к нашему приезду был занят минералогическим музеем и кабинетами геологической службы, которую возглавлял горный инженер Бутырин еще с дореволюционных лет.
Точного наименования должности отца я назвать не могу, но знаю, что работа его была посвящена организации разумного природопользования ресурсов республики. Как всегда, он с увлечением работал, часто ездил в поездки по районам республики, по лесным и водным угодьям, особенно в места безлюдные (а их тогда было много), где выяснял неиспользованные ресурсы.
Получал он в месяц 150 руб., что по тем временам было очень много, да и мать сразу же по приезде сюда поступила в краеведческий музей, взяв на себя его естественно-исторический отдел, и тоже порядочно зарабатывала, хотя и поменьше, чем отец. После колпашевской нужды и полуголодного существования мы оказались обеспеченными наравне с самыми высокооплачиваемыми работниками в городе. Мы скоро откормились, тем более что мать, прошедшая в свое время специальную домоводческую подготовку, смогла наконец реализовать свои знания и умения в деле кулинарном. Тогда я узнал, что бывает поросенок с кашей, караси в сметане, пироги с осетриной и многие другие вкусные и, безусловно, питательные вещи, каких и потом едать не приходилось. Оба мои родителя были довольно равнодушны к одежде, а у матери не было никакого вкуса художественного. Поэтому наша одежда стала хотя и новой, но не всегда была хороша по размеру и фасону. Появилась вся необходимая обстановка, купленная по случаю и вразнобой: прямые стулья местной поделки и старинный резной дубовый буфет, которому сейчас и цены не было бы, отлично уживались в нашей столовой. А в один из дней после нашего приезда к нам грузчики подняли пианино. Старинное, фирмы «Мюльбах», оно имело голос негромкий и мягкий. Отец сразу же попробовал что-то сыграть и не смог, клавесинный звук, так очаровавший меня, показывал, что пианино требует настройки. Уже назавтра настройщик явился и, поиграв свои арпеджо, за полдня привел инструмент в порядок.
В городе была большая группа интеллигенции, люди, занесенные сюда ветрами революции, имевшие еще, конечно, дореволюционное образование, иногда — заграничное. Скоро вокруг отца собрался кружок друзей и знакомых, которые собирались у нас по вечерам или к обеду. Шли беседы о местных делах, обсуждались экономические и политические проблемы, случались дискуссии о литературе. Время от времени устраивались музыкальные вечера, где отец исполнял партию рояля, профессиональный скрипач, ставший бухгалтером, играл на скрипке, а молодая певица с голосом очень хорошим, но не сильным, оставившая по этой причине консерваторию, пела русские романсы и оперные арии.
Мы с братом были отданы в школу, в те классы, какие соответствовали нашему возрасту и развитию. Брат пошел в третий класс и с этого времени учился по общим правилам, а я попал в шестой. Но ему досталась ближайшая к нашему дому школа, а мне пришлось ходить в железнодорожную, чуть ли не за три километра от дома. Могу предположить, что причиной, по которой я оказался в нее записанным, были подробности тогдашнего быта. Дело в том, что дети буржуев, попов и других нетрудовых элементов в школу не допускались, а в справке о соцпроисхождении должен был упомянут и сам род семейства. Таким образом, в справке о соцпроисхождении отца по-хорошему нужно было бы написать «из семьи священнослужителей», но нашелся человек, проделавший редукцию «богослов-философ-ученый-научный работник-служащий» и закрепивший результат в документе. Так отец получил благородное происхождение, но в наших справках еще должно было быть обойдено его англо-белое уклонение в архангельские времена, и, вероятно, случившееся в двух справках разноречие понудило отца поместить нас с братом в разные школы. Брат учился хорошо, а я попал в обстоятельства трудные. Почему-то отец совсем не занимался со мной геометрией, а в алгебре были порядочные лакуны в сравнении с программой, и эти предметы пошли туго. Кроме того, я был чужим в спевшемся классе железнодорожников, и поэтому, как всякий одиночка, подвергся преследованиям стаи. Нашими занятиями в школе дома совсем не интересовались, отец и мать, привыкшие к тому, что мы с братом всегда решали свои проблемы сами, и увлеченные своей работой, никогда не спрашивали о домашних заданиях и отметках. У меня дело кончилось тем, что в очередной драке в школьном дворе в какой-то день, когда я решил сходить в школу (а ходил я туда только два-три раза в неделю, остальное время посвящая играм и мелкому хулиганству в своей квартальной шаечке ребят-подростков), я получил ножевую рану в ногу, о которой, конечно, никому не сказал. На другой день рана, кое-как перевязанная приятелями, воспалилась, у меня поднялся жар, и я не смог имитировать свой уход в школу. Я попытался было встать, но не смог, мать спросила, в чем дело, я соврал что-то. Мать посмотрела рану, ужаснулась и вызвала доктора Гофланда. Истина открылась, и я был опять изъят из школы. Доктор Гофланд был замечательный врач, рана зажила через несколько дней, и я дома занялся теми предметами, по которым в школе у меня были трудности.
О докторе Гофланде надо сказать тут несколько слов: он был одним из тех людей, которые запомнились мне на всю жизнь. Был он пленным Первой мировой войны, оказался в Верхнеудинске, осел здесь, женился, открыл практику и пользовался еще до революции славой прекрасного врача. Бедняков он лечил бесплатно, обеспеченные люди платили ему по тогдашним обычаям, кладя на поднос в прихожей гонорар по своему усмотрению. Зарабатывал он хорошо, имел большой дом, выезд с кучером и пр. Революция его лишила кое-чего, но дом ему оставили, как осталась и его частная практика. Сразу после революции он принял самое деятельное участие в организации народного здравоохранения, положил много сил на устройство амбулатории, сам принимал там больных как окулист, но мог буквально все: мне он вынимал большой гвоздь, который я ухитрился воткнуть в ладонь, дважды выскабливал веки, пораженные трахомой, хирургически подправил мое ужасное косоглазие (и сделал это не хуже, чем потом, спустя десятки лет, сделали для сына в головном московском институте). Он был домашним врачом в семьях интеллигентных горожан, вел он и нашу семью. Как все домашние врачи, он знал о своих пациентах все, поэтому для него не было болезней непонятных по происхождению, он знал подход к каждому своему больному, и лечение всегда было успешным. Когда он проходил по улице, грузноватый хромой человек в толстых очках, улица почтительно затихала, не было ни одного человека в городе, который бы не знал о самоотверженности доктора на пользу общества.
Наш быт постепенно наладился: появилась постоянная прачка, забиравшая раз в неделю наше белье, приходящая домработница, убиравшая квартиру и готовившая обед в обычные дни и помогавшая матери в ее кулинарных занятиях, если предполагались гости, а в определенные дни являлись китайцы — разносчики зелени, рыбы, галантереи (у которых мать покупала и контрабандные туфли, и духи), регулярно заходил сапожник со своим инструментом, который тут же чинил всю обувь.
Мать, сначала пропадавшая в музее целыми днями, постепенно довела свою долю коллекции до казавшегося ей правильным порядка и больше времени отдавала домашним делам. Отец вступил в научное общество им. Доржи Банзарова и много времени проводил в его библиотеке и архиве, где подбирал нужные ему материалы по краеведению, но вечерами бывал дома и что-нибудь читал или играл на пианино. Мы с братом учились в школе, играли с местными мальчишками, бродили по лесу. В это время я увлекся моделированием, строил подвижные игрушки, занялся фотографией. Мы часто бывали в музее, где заспиртованные змеи и чучела зверей не очень нас привлекали, но в историческом отделе, где были кольчуги и мечи XVI—XVII веков, пушечки с каменными ядрами, пищали и пистолеты еще времен декабристов, — в этом отделе мы буквально пропадали по целым дням, пользуясь большой свободой, поскольку хранитель этого отдела Василий Васильевич был влюблен в нашу мать и большую часть дня проводил в проходе, ведущем в естественный отдел, издали любуясь матерью, сидевшей за своим микроскопом или работающей c гербарием. Любовь эта была совершенно безответной: отец наш был единственным светом в мире для нее. Мы хотели организовать стрельбу из пушечек первопроходцев, но протащить пушечку мимо матери не удалось и проект не получился. Из трехствольного пистолета мне выстрелить во дворе музея удалось. Шум получился страшный, а куда ушла картечина, я не знаю.
В 1927—1928 году я оказался в школе второй ступени, которая тогда заканчивалась на девятом классе, и очень трудно учился, осознав, что достойной может быть только жизнь, освещенная знанием. Тогда был т. н. бригадный метод обучения, при котором класс разбивался на пятерки во главе с бригадиром, и я, естественно, оказался в бригадирах. Все вопросы учитель задавал бригаде, ответ любого члена бригады засчитывался всем членам бригады, а контрольную работу бригада писала одну на всех своих членов. Все это было задумано как способ воспитания коллективизма, но приводило к тому, что занимались в бригаде только те, кто хотел и мог. В моей бригаде оказался здоровый и добрый парень, умевший связывать два больших гвоздя в узел с бантиком и очень способный к другим силовым номерам, был увлеченный автомобилист, все свое время отдававший ремонту тех нескольких автомобилей, которые были в городе. Других я не помню, они, наверно, иногда отвечали на вопросы учителя по моей подсказке (которая считалась проявлением коллективизма), но те двое ни разу не проронили и слова на вопросы учителя: подробности характера Раскольникова и теорема синусов им были без надобности. Так, начиная с седьмого класса школы, я начал свое систематическое образование, которое тогда стоило не постоянных головных болей из-за переутомления; заполнение пропусков в программном знании и необходимость всегда быть готовым к ответу за всю бригаду заставляли меня работать не жалея сил.
Работа отца в Госплане продолжалась года два и закончилась написанием отчета-монографии по хозяйственному районированию республики. Почерк его был таким, что машинистки отказывались переписывать его работы, поэтому у нас появилась портативная пишущая машинка «Корона» с трехэтажным шрифтом, на которой мать переписывала или писала под его диктовку его работы. Этот отчет содержал страниц 400, и привычной стала картина, когда отец ходит по комнате, а мать стучит на машинке, иногда советуя нужный оборот или слово.
Уже в кубенские времена отец увлекся лимнологией, а озера, которых в республике много (и все рыбные), оказались не исследованными, иногда даже нанесенными на карты только пунктирной линией. Он перешел в Наркомзем республики и стал заведовать всем рыбным делом (должности опять назвать не могу), особенное внимание отдав исследованию озер. Тогда же он начал полупромышленный эксперимент по разведению омуля, одной из ценнейших рыб мира, которая водится только в Байкале, Селенге и, кажется, в реке св. Лаврентия (тогда еще он в небольшом количестве был в Печоре).
Экспедиции
В 1928—1931 годах отец предпринял экспедиции по исследованию цепи Еравнинских озер, Гусиного озера, реки Ципы и Баунтовских озер. Он обладал порядочными организаторскими способностями, сумев мобилизовать те небольшие средства, какие были в государственных учреждениях, и средства Научного общества. Напряженно работая в этих экспедициях и умея организовать такую же напряженную работу своих немногочисленных сотрудников, он получал большие и серьезные результаты при очень скромном расходе общественных средств. Сейчас подобные работы потребовали бы усилий нескольких докторов и кандидатов наук и стаи соискателей, и расходов в десятки тысяч рублей. Он обходился несколькими помощниками, несложным инвентарем и расходами в две-три тысячи рублей за целое лето исследовательских работ.
Он никогда не говорил высоких слов о необходимости труда и его облагораживающем воздействии на человека, он просто однажды сказал мне, что берет меня с собой в очередную летнюю экспедицию, предупредив, что я еду не как сын руководителя экспедиции, а как рядовой рабочий или лаборант. Таким образом я оказался вовлеченным в его работу, которая углубила мое проникновение в природу. Природа и закрепила навыки и необходимость в целенаправленном и непрерывном труде.
Мы прошли с ним по цепи Еравнинских озер, из которых самым большим было Большое Еравно, длиной и шириной километров 12 на 10 и глубинами до 20 метров, протянувшееся на 25—30 километров и завершающееся очаровательным маленьким, почти круглым озерком с километр в диаметре, Гундой, уже не связанным с цепью протокой и скорее отнесенным к еравнинской цепи только по географическому положению. На каждом из озер мы делали от десятка до нескольких десятков разрезов с промерами глубин, взятием проб планктона и бентоса, географическое описание со съемкой береговой линии. Целыми днями я сидел на веслах, распоряжался планктонной сеткой, подсчитывал бентос по видам (с помощью отца), вел записи в путевой книжке — обязательно простым графитным карандашом, чтобы брызги волн и дождь не повредили записи. Отдых приходился только на очень ненастные дни, да и то был относительным, потому что в эти дни происходила черновая обработка собранного материала. Жили мы в этих поездках в какой-нибудь крестьянской избе, питались тем, что могла предложить нам хозяйка, и рыбой, которую я ловил по вечерам, иногда дополняя рацион дичью, добытой в течение дня. Я тогда подсчитал за какое-то лето, что прошел на веслах и с парусом 1400 км и прошагал с компасом и шагомером не один десяток километров по береговой линии озер, делая съемку для точного нанесения их на карту. Пользовались мы местными крестьянскими лодками, которые дооборудовались имитацией в виде плоского деревянного гребня, мачтой и прямым парусом; иногда борта лодки наращивались еще одной доской. С погодой мы практически не считались, и только обложной дождь мог задержать нас дома. О выходных днях и разговора не было. В команду обычно входили отец, один лаборант из иркутских студентов, я — работник на все руки и один местный мужик, распоряжавшийся лошадью, на которой доставлялось наше вооружение, если работа, больше чем на один день, предполагалась в большом отдалении от выбранной нами базы и если там не было поблизости жилья. Тот же мужик делал и все работы по оборудованию лодки, заготовлял дрова (если требовалось), готовил нехитрую еду на костре в дни работ вне базы.
Близкое общение с крестьянами, проникновение в их дела и обычаи, восхищение их сноровкой во всяком деле с тех времен и навсегда воспитали во мне уважение к народу, русскому и нерусскому. Бывали удивительные встречи, одна из которых очень запомнилась. Был ветреный день, мы с отцом почти весь этот день делали разрезы на Малом Еравнинском озере и к концу дня решили немного отдохнуть в деревне Красная Горка, единственной на берегах этого озера, имеющего размеры примерно 8 на 6 км. Деревня стоит на высоком берегу озера и защищена от ветров близко подступающими к ней горами. Мы выбрали избу побольше и представились хозяину. Нас поразил петербургский выговор хозяина и правильная речь его. Он оказался учителем в местной школе и рассказал нам свою историю. Когда-то он был студентом Петербургского университета, участвовал в экспедиции, открывшей знаменитого березовского мамонта, пробовал на вкус мясо этого мамонта (оно оказалось съедобным, но сильно пахло хвоей), его ожидала научная карьера, но он принял участие в революционной работе и был сослан в Сибирь. С тех пор учительствовал в этой деревне и так привязался к этим местам, что больше в Петербург не вернулся. У него была отличная библиотека, он вел обычное крестьянское хозяйство и был совершенно удовлетворен своей жизнью. «Я здесь живу уже много лет, почти все здесь прошли через мою школу, меня уважают, и вокруг меня прекрасные люди, которые всегда готовы помочь мне и получают от меня всю помощь, какую я могу оказать им. Здесь мир вокруг меня и мир во мне, а прочая жизнь — вот она», — и он показал на полки с книгами. Потом, значительно позже, когда я познакомился со стоическим учением, эта встреча подготовила мое понимание стоицизма и, отчасти, принятие учения как внутренне для меня необходимого.
Лодки наши не всегда были хороши, парус мы старались сделать побольше, и в этот раз, возвращаясь на нашу базу на Сосновском озере, шальным ветром мы были выброшены на противоположный берег Малого Еравно, а наше имущество было разбросано по песку пляжа бешеными прибойными волнами.
Места в Забайкалье здоровые. Местность поднята над уровнем моря на 1,0—1,5 км, солнечных дней там больше, чем в Крыму, континентальность климата сглаживается Байкалом, хотя зимой бывают морозы до 35—40 градусов, а летом — такая же жара, ощущение которых, впрочем, сглаживается постоянной сухостью воздуха. Но и сухость эта — не сухость закаспийских степей: летом часты хорошие дожди.
Наши перемещения по экспедиционным нуждам происходили на лошадях (автомобилей еще почти не было). Здешние мелковатые лошадки пробегают по 100—110 км за день с одним кормлением в середине дня. Их запрягали парой в ходок, телегу, напоминающую дрожки Средней России, в которых конструкция задних и передних колес соединена поверху рядом тонких и гибких жердей, составляющих подпружиненную и поэтому менее тряскую платформу, чем дно обычной телеги. Под дугой коренника — два или три колокольчика, настроенных примерно в терцию: при движении рысью они излучают кроме основных своих тонов уйму гармоник, и плотный поток консонантных и ассонантных звуков сначала сводит с ума, а потом к ним привыкаешь и уже не слышишь, как не слышали их во времена Пушкина путешественники наши на постовых лошадях.
Горы обступают вас со всех сторон, округлые невысокие (до километра высотой) сопки, за ними — горы все выше и выше, а поближе к центру Хамар-Дабана в далекой дали и высоте поднебесной отовсюду видны белки — вечные снега на вершинах пиков. Молодая Уда не успела еще промыть себе широкой долины, но Селенга, прижавшись правым боком вплотную к горам, оставила на левом берегу широкую (в десятки километров) степную долину, дальняя сторона которой тоже ограничена горами, синеющими по всему горизонту.

Поездки по этим долинам и распадкам между горами, вдоль быстрых кристально чистых рек, через могучие сосновые леса, в запахах богородской травки и дурманящем аромате смолы, дневной отдых на берегу какой-нибудь реки, когда лошади пасутся в густой траве или хрупают овес, а ты можешь полежать у костра, на котором уже закипает чайник или похлебка, и видишь, как в ясном небе коршун за кругом чертит новый круг, — с тех дней навсегда осталось во мне ощущение могущества природы и полноты жизни. Работа под бездонным небом на водных просторах озер, окаймленных по дальним берегам синей полоской лесов, дополнила эти впечатления.
Наверно, тогда я начал быть человеком: тогда был заложен фундамент внутренней свободы. Свободы, которая была частью великой свободы природы.
Исследовательские работы отца и его хозяйственные рекомендации принесли ему популярность, и он был приглашен в обком, где сделал обстоятельный доклад. Поэтому его экспедиции на Гусиное озеро, в которых я тоже принимал участие, были обеспечены значительно большими средствами, чем предыдущие. Мы имели большую, байкальского типа лодку, оборудованную хорошим килем, полную парусную оснастку для нее, дночерпатель, батометр, прочие научные инструменты. Гусиное озеро расположено километрах в 120 на ЮЗ от Верхнеудинска, имеет длину чуть больше 30 км и ширину от 4—5 км до 8—10. В него впадают несколько маленьких речек, стока, кажется, нет. На берегах тогда было только несколько кучек зимних изб полукочевых бурят, и только у южной оконечности озера было большое селение Тамча, где находился один из самых известных дацанов. База наша была в небольшой бухте на восточном берегу озера, где мы заняли пустующую избу-зимовье, просторную и добротно построенную. Вода в озере прозрачна, как байкальская (на глубине в 8—10 метров видны все подробности дна), горы — ближе или дальше обступили озеро со всех сторон, иногда скалы прямо падают в озеро отвесной стеной, как было и в нашей бухте. С утра отец присматривался к погоде и ветру, делал прогноз и назначал дневную работу так, чтобы к началу очередного разреза мы могли прийти под парусами, а закончив дневной урок, вернуться домой тоже с ветром. Лодка наша имела достаточно хорошие мореходные качества, она отлично шла под боковым ветром, и даже шла в бейдевинд, правда, не очень круто, поэтому точное направление ветра не имело для нас очень важного значения. Работа, как всегда, была напряженной, материала собиралось много, но в команде на этот раз была мать, отвечавшая за часть ботаническую, но принимавшая участие и в обработке прочего материала, которой добрую часть дня были заняты и два лаборанта. Бывали и такие дни, когда мы с кем-нибудь из лаборантов на веслах выгребали против волны и ветра, идя в полной темноте на огонь керосиновой лампы, выставленной матерью на окно, но были и счастливые случаи попутного ветра, когда, развернув паруса «бабочкой» (перпендикулярно к длинной оси лодки), под свежим ветром мы летели со скоростью хорошего парового катера. Охота и рыболовство по необходимости (есть-то надо) входили в список обычных наших занятий. Бывали и дни посвободнее, когда я мог просто пройтись под парусами ради упражнения, что позволило мне научиться свободному обращению с лодкой в любую погоду. Высокая зеленая волна, иногда заплескивающаяся в лодку, свежий ветер, пена и брызги, когда она, крепясь, бойко бежит под боковым ветром, чувство полета стали привычными элементами повседневного существования.
Однажды в случайном дорожном происшествии в другой части республики отец познакомился с ламой высокого ранга, сухим стариком в ярко-желтом халате. Происшествие было ничтожным и скоро забылось. Но во время одной из гусиноозерских экспедиций оно вспомнилось: нас пригласили на годичный храмовый праздник в Тамчу. Были отложены все дела, и мы под парусами отправились туда.
Дацан
От нашей базы до Тамчи было около 30 км, и мы всю ночь слышали рев ухыр-буре, четырехметровых труб ритуального ламаистского оркестра, доносившийся к нам оттуда через ночную озерную тишину. Ветер был в три четверти с кормы, лодка бежала резво, и мы часа через полтора были уже в Тамче. Отец пошел представиться настоятелю монастыря и у него встретился с тем высоким ламой, с которым когда-то познакомился. Он оказался бандидо-хамбо-ламой, старшим по чину во всем Забайкалье священником, управлявшим всей епархией.
Ламаизм — тибетская ветвь буддизма. Он проник в Забайкалье в XVII—XVIII веке, сменив шаманизм, хотя и принял в себя некоторые его ритуалы. В Забайкалье было 30 дацанов, ламаистских монастырей, в которых подвизалось около 10 тыс. лам и которые владели большой земельной и прочей собственностью. Царское правительство принимало меры по ограничению роста числа дацанов и сделало кое-что по ограничению поборов лам с прихожан, но больших успехов в этих начинаниях не достигло. Практически все население Бурятии было охвачено культом и принимало участие в культовых мероприятиях, как храмовых, так и бытовых, причем последние были наиболее шаманистскими (культ богов местности, рода и т. п.).
Конструкция ламаистской церкви очень напоминает конструкцию церкви католической: в Лхассе сидит далай-лама со своими высшими советниками, он не только представитель Бога на земле, но и прямое его воплощение, бандидо-хамбо-ламы управляют диоцезами, подразделенными на епархии, подчиняющиеся хамбо-ламам, настоятелям дацанов. Курс богословского образования длителен и сложен, рядовые ламы едва грамотны по-монгольски, неграмотны по-русски и свою богословскую премудрость по-тибетски (латынь ламаизма) учат наизусть, вряд ли полностью понимая смысл заучивания. Но высшие священники проходят курс высшего образования в Европе и длительный курс специального образования в Тибете и Индии. Таким образованным и был наш новый знакомый бандидо-хамбо-лама. У него была с собой небольшая библиотека, в которой были книги на нескольких европейских языках, и они с отцом время от времени переходили в разговоре на французский. По его распоряжению мы с отцом были допущены в храм во время праздничной службы, наблюдали мистерию, развернувшуюся перед храмом, с балкона третьего этажа храма, а я имел возможность обойти храм во время службы. Надо сказать, что во время богослужения в храм не допускаются даже прихожане, уж не говоря об иностранцах, поэтому такое разрешение надо считать высокой честью.
Главный храм имел три этажа ступенчато уменьшающейся снизу вверх площади: нижний этаж имел размеры примерно 50 x 50 м, а верхний — всего 6 x 6. На двух верхних были широкие балконы с перилами, крыша верхнего была увенчана парой бронзовых оленей, встретившихся так, что начищенный бронзовый диск солнца поместился между их рогами.
Я обошел храм, где на ковриках длинными рядами сидели несколько десятков лам, монотонно и в унисон читавших тибетские молитвы, наполненный большим количеством статуй ламаистских божеств размером от 10—15 см до 3 м, с курящимися благовониями-палочками почти перед каждой, отчего воздух в храме был синеватым, а голова немного кружилась. Примерно каждые 15 минут взревывал оркестр, составленный из духовых инструментов и барабанов разного размера до 2 метров в диаметре. Музыка была тревожной, хотя мелодия едва обнаруживалась в ней, и она вряд ли имела такое деление на такты. Непрерывно звучали раковины: два монаха по очереди дули в свои раковины, настроенные очень точно, так что казалось, что звук непрерывен. Среди скульптур буддийских божеств время от времени можно было видеть и страшновато-совершенных уродливых демонов тибетского происхождения. Но наибольшее впечатление производила деревянная скульптура женщины в сари, придавившая ногой негра, у которого изо рта текла кровь, а ярко-голубые глаза были выпучены. Негр был размером в нормальный человеческий рост, а придавившее его божество было высотой метров 12. По витой лестнице можно было подняться на третий этаж, который почти весь был занят головой божества, и голову эту на расстоянии метра-полутора окружал балкон, с которого можно было вглядеться в прекрасное лицо статуи. Оно было спокойным спокойствием полного знания, глаза его смотрели на вас и видели вас, но видели также и всю даль времен и пространств. Пантеон ламаизма громаден и очень сложен (Ламаизм в Бурятии XVIII — начала XX века. М., 1983), и я его не знаю; тогда мне представилось, что это была женская скульптура: стройное сложение, что-то вроде сари. Но это мог оказаться и Матрейя, грядущий Будда-мессия.
Хоровод мистерии этого праздника (цама) начался часа за два до захода солнца, в нем участвовали десятка два масок, на наш взгляд, страшноватых, но все они представляли силы добра, некоторые из них, наверно, самые могучие, были на ходулях. Маска-ворон представляла активное зло, все время пытавшееся вредить силам добра. Перед самым заходом солнца выстроилась процессия этих масок, предводимая оркестром с громадным ухыр-бурэ и другими инструментами, а впереди два монаха несли сооружение из легких деревянных планок, обвитое лентами и похожее на пирамиду высотой метра два, которое символизировало зло, накопившееся в мире за год. Совсем перед закатом солнца сооружение это (сор) было сожжено на костре, и округа оказалась очищенной от зла дочиста.
Мы с отцом наблюдали мистерию с балкона дацана и, похоже, правильно определили ее значение.
Как я уже говорил, отец был сознательным атеистом, но институт религии уважал, считая религию гранью духа данного народа, сложившегося исторически и потому совершенного. В частности, красные гуси (турпаны), которых множество плавало в степных озерках, были им табуированы: турпана нельзя было подстрелить даже тогда, когда нам было совершенно нечего есть: турпаны по еще шаманским обычаям считались у бурят птицей священной.
Он прошел со мной по храму, мы осмотрели молитвенные барабаны от больших (метра по три высотой и диаметром) до тех, которые рядами были расположены вдоль стены храма с внешней его стороны, и медленно прошли вдоль них, и прокрутили барабаны с тем, чтобы тибетская молитва, напечатанная на шелке и вложенная внутрь барабанов, дошла до небес, до богов.
В 1931—1932 годах отец провел экспедиции по исследованию реки Ципи и группы Баунтовских озер. В этих поездках я с ним не был, я уже уехал в Москву учиться. В одной из этих экспедиций с ним был брат Женя, как был он и в одной из последующих экспедиций на Гусиное озеро, тоже побывав на храмовом празднике. Он привез оттуда утащенную им, конечно, без ведома отца, икону на плоском куске камня размером 20 x 30 см, где было изображение одного из воплощений Будды.
Время
1927—1932 годы — годы больших перемен в жизни страны: пятилетка индустриализации, коллективизация сельского хозяйства, становление СССР как великой державы современного мира.
Мальчишка, занятый своими увлекательными делами, я сначала видел только то, что было вплотную вокруг меня, и непосредственные события моих путешествий с отцом, тяжкие школьные занятия, увлекательные подвижные игры с ребятами моего квартала, моделирование, в котором я достиг хороших успехов, беспорядочное и почти непрерывное чтение книг из все увеличивающейся домашней библиотеки, — всего этого было достаточно для наполнения моей: жизни. Случай вывел меня из этого состояния индифферентности в отношении к большому миру.
Однажды я увидел демонстрацию наших городских комсомольцев. Они шли в своих, тогда принятых формах (гимнастерка с портупеей, брюки-галифе, гетры до колен, кепка, как у Ленина, сдвинутая назад), построенные повзводно, и несли лозунги «Даешь мировую революцию!». Я тогда подумал, что давно уже пора, построившись повзводно, отправиться в прогнившую насквозь Европу и навести там должный революционный порядок. Я, конечно, тоже должен был бы принять участие в наведении этого порядка в Европе». Чтобы узнать, с чего начать работу, я отправился в прекрасный читальный зал нашей городской библиотеки и стал изучать периодику. Мне показалось, что работу эту нам не удастся закончить к началу нового учебного года, как я надеялся. Выяснилось, что Германия давно уже не питается черным хлебом с брюквенным повидлом, а в соответствии с планом Дауэса строит крупный и очень опасный для нас морской флот, Бриан (французский премьер) конструирует Соединенные Штаты Европы, а бастующие докеры Англии могут не так уж много, поскольку Остин Чемберлен, так печально потом прославившийся в Мюнхене, призывает к новой интервенции против России. Я принял самое деятельное участие в сборе денег на постройку эскадрильи «Наш ответ Чемберлену» и решил посвятить себя индустриализации страны; к тому времени я уже построил свой первый радиоприемник и уже знал, как приложить свои силы к общему делу. Лозунги «Построим 570 крупных предприятий и 1040 машинно-тракторных станций!» были вывешены повсюду, и я знал, что место приложения моих сил найдется.
Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), организовавшиеся в начальном времени коллективизации, не имели достаточной материальной базы: составившие их бедняки не могли обеспечить новые хозяйства достаточным количеством лошадей и инвентаря, поэтому ТОЗ не составили какой-либо конкуренции в торговле хлебом основным его поставщикам — крестьянам семейских (староверских) общин, и члены ТОЗ вели едва обеспеченное существование. Семейские жили крупными селами, семейная община обрабатывала единый клин земли без размежевания участков, числившихся собственностью отдельного члена семьи. Избы и надворные постройки были сделаны добротно и просторно, в каждом дворе было по три-пять лошадей, несколько коров и прочая живность, всегда исправный инвентарь. Все это было чисто, ухоженно, здорово и сыто. Хлебное хозяйство семейских было высокотоварным, именно они обеспечивали хлебом всю округу и поставляли его для закупок государству. Семейские всегда были сыты, чисто одеты в свою традиционную одежду (национальная одежда русских XVII—XVIII века), не пили, не курили и подчинялись жесткой дисциплине рода: все вопросы решались окончательно только хозяином семьи, а в редчайших случаях разногласий в семье — старшим в роду. Работники они были замечательные, и работа их, крестьянская ли, плотничная ли (в артелях отхожих промыслов) была всегда сделана добротно и до конца.
Когда было принято решение о сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, в Забайкалье пользовались общесоюзными нормами при определении статуса двора как кулацкого или некулацкого: все, у кого было больше, чем две лошади — кулаки, меньше — бедняк или середняк. Все имущество кулаков, определенных таким образом, подлежало экспроприации, а сами они вместе c семьями высылались куда-нибудь в необжитые места; бедняки должны были составить массив колхозников, в который могли войти и середняки, причем если середняк уклонялся от вступления в колхоз — всегда находился повод причислить его к злостным подкулачникам, чем и определялась его дальнейшая судьба, такая же, как и у кулака.
У семейских обычно во дворе было больше, чем позволяла эта норма, лошадей и прочего имущества. Это позволяло им обрабатывать большие участки земли, обеспечивало товарность их хозяйства, все было заработано многолетним тяжким крестьянским трудом. Поэтому когда семейские поняли, что с ними будет, они возмутились. Начались массовые пожары в селах, горел хлеб на полях и в амбарах, забивалась скотина (и часто не для того, чтобы продать мясо, а чтобы не сдать скотину в колхоз). В «комиссаров» — уполномоченных по коллективизации — стали стрелять, многие села поднялись целиком и, взяв о собой возможное количество скотины и хлеба, ушли через Монголию в Китай. Дальнейшей судьбы этих людей я не знаю, но, наверно, русские колонии под Харбином, во Флориде и Канаде пополнились из этого потока.
Члены колхозов долго еще (очень долго) не могли стать коллективом, стремящимся к единой цели и связанным общей ответственностью за результат труда, жалость к «своему» сданному в колхоз, максималистские начинания по обобществлению чуть ли не продуктов ежедневного питания и дворовых куриц препятствовали коллективистскому объединению людей. А нехватка тягла, семян, инвентаря и обязательное выполнение указаний о том, что и где сеять, в какие сроки, исходившие от некомпетентных людей из высших организаций, привели к тому, что эффективность сельского хозяйства катастрофически упала. Выдача всех основных продуктов питания была по необходимости жестко нормирована, сначала по заборным книжкам ЦРК (центральный рабочий кооператив), потом — по продовольственным карточкам, введенным повсеместно.
С нэпом было покончено. Закрылись лавки, когда-то полные разнообразного товара, опустел городской рынок: торговля даже редиской со своего огорода стала квалифицироваться как спекуляция. Распались артели, плотницкие и другие: артельщик был предпринимателем буржуазного типа, и с ним покончили налоговыми или прямыми административными мерами; кроме того, деньги потеряли свою действенность и на них уже нельзя стало купить материалы и инструменты. Это последнее привело к тому, что закрылись и все кустарные промыслы, и вставка разбитого в окне стекла или починка ботинок сделались проблемой чрезвычайной трудности.
Уехали в свою Синьтьзянь все китайцы-огородники и разносчики, и ведро картошки или пучок морковки стали тоже проблемой.
В 1927 году была проведена первая чистка партии, которая скоро распространилась и на государственные учреждения, а еще немного спустя процесс чистки стал перманентным. Из партии исключались все, кто имел хоть самое отдаленное отношение к белому движению, церкви, дореволюционной торговле, офицеры не только белых армий, но и царские (служили-то вроде царю!), даже и по своей воле перешедшие на службу к красным. Весь этот народ увольнялся и из государственных учреждений независимо от того, как они работали, от их квалификации, от степени их сознательности.
Прошли первые вредительские процессы (шахтинское дело), в которых и на самом деле были открыты элементы вредительства, неумелого и плохо организованного. В кружке знакомых, тогда собиравшемся у нас, эти процессы были обсуждены, и участники вредительских мероприятий были осуждены общественным мнением как нарушители патриотического долга: страна только-только еще начала подниматься из разрухи Гражданской войны, и долгом каждого истинного патриота был труд на пользу становящейся экономике.
В 1929 году я окончил среднюю школу и уехал в Москву, где был принят в семью Шарковых. Мой блестящий аттестат из школы мною заслужен, я очень много читал, знал хорошо не только русскую литературу, но и в мировой разбирался свободно, поездки мои с отцом по Забайкалью и работа в экспедициях дали порядочные знания в естественных науках и сильно расширили мой общий кругозор. Но в педагогическом отношении я был совершенно запущен: неряшлив в делах и быте, ни в малой мере не владел культурой общения, несмотря на большую начитанность, плохо управлялся с российским лексиконом. Мать была ничтожным педагогом, отец, вечно занятый мыслями и делами о своей науке, совсем не занимался тем, что называется воспитанием, делая в нем только самое главное (расширение кругозора, приобщение к труду, внедрение начал этики (в пределах Нагорной проповеди, чего, впрочем, предостаточно)); и это главное давалось чаще всего не в лекциях и нотациях, а непосредственным примером поведения в определенных ситуациях. Но, вероятно, задатки природные и семейные были достаточно хороши, поскольку тетя Шура (Александра Сергеевна, сестра отца) за довольно короткое время сумела сделать из меня нормального члена общества, конечно, не без недостатков и особенностей, присущих всякому отдельному человеку.

[1] В этом и следующих номерах журнал печатает обширные фрагменты из воспоминаний Владимира Евгеньевича Соллертинского (1914—1993). Это восстановленный самим автором вариант рукописи — первый, значительно более полный, в свое время был изъят КГБ. Владимир Евгеньевич происходил из интеллигентной состоятельной семьи (достаточно сказать, что его дед был крупным ученым-богословом, профессором Санкт-Петербургской духовной академии), и поэтому сталинские репрессии не могли его не коснуться. Отец Соллертинского с женой и детьми были сосланы уже в 1923 году, а в 1937-м его арестовали и отправили в лагерь. За старшим сыном Владимиром пришли десятью днями позже. В отрывке, здесь помещенном, описывается период, предшествовавший этим двум роковым для семьи событиям. Рукопись хранится в архиве НИПЦ «Мемориал» (ф. 2, оп. 1, д. 112, л. 21—64) и печатается с любезного разрешения этой общественной организации.
