Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Рождение безопасности
Суверенитет осуществляется в границах
некоторой территории, дисциплина реализуется
на телесности индивидов, а безопасность
охватывает множество народонаселения.
Мишель Фуко[1]
Пассажиры московского метро, поднимаясь или спускаясь на эскалаторе, часто слышат объявление, в котором содержится просьба с пониманием относиться к проверке документов и возможному досмотру личных вещей сотрудниками полиции. «Безопасности не бывает слишком много», — такова заключительная фраза этого послания. Грозный слоган, тиражируемый сотнями механических голосов, может служить своеобразным знаком нашей эпохи. Государство модерна, чье существование все чаще оспаривается[2] и чье будущее представляется все более туманным, объявляет безопасность своим главным алиби. Нынешний порядок господства и властных отношений, говорят нам, должен сохраняться, поскольку он гарантирует индивидам минимальный уровень защиты от терроризма, экологических катастроф, семейного насилия, ксенофобии и этнических конфликтов. «Безопасности не бывает слишком много» — тезис, означающий, что мы должны постоянно повышать ставки, играть на опережение, анализировать потенциальные риски и — уже сегодня — платить за то, чтобы свести завтрашние угрозы к минимуму.
Фрэнсис Фукуяма, писавший в середине нулевых о том, что угроза оруэлловской антиутопии для западного мира миновала[3], по всей видимости, вновь поспешил с выводами. Видеокамеры, взявшие под тотальный контроль публичное пространство, биометрические паспорта, системы слежения в Интернете, электронные деньги, наконец, сама массированная информационная кампания, направленная на поддержку мер по обеспечению безопасности, — все это как никогда раньше указывает на реальность присутствия Большого брата. Партизанские действия анонимных хакерских групп и Wikileaks лишь усиливают притязания государства на обеспечение нашей безопасности. Если вдуматься, никто не знает в точности, куда транслируют изображение видеокамеры, установленные на лондонских площадях; никто не может и оценить объем ресурсов, которые государство инвестирует в высокие технологии, обеспечивающие сбор и обработку информации о жизни граждан. Главное условие эффективности подобных систем состоит как раз в том, чтобы террористы, педофилы и расисты не могли адаптироваться к их существованию. Как следствие залогом безопасности становится беспрецедентная экспансия секретности. Обсуждение этой проблемы сегодня для многих становится способом сделать карьеру — так, например, интернет-звезда Ким Дотком бежал от европейского и американского правосудия в Новую Зеландию и заявил там о своем намерении бороться с вмешательством государства в частную жизнь пользователей Сети[4].
Примечательная особенность нынешней ситуации заключается в том, что борьба с терроризмом, которая, как утверждают, требует наделения правоохранительных органов чрезвычайными полномочиями, сочетается с неолиберальной риторикой о минимальном государстве. Классическая концепция «ночного сторожа», переосмысленная в работах радикально настроенных либертарианцев XX века, приходится здесь как нельзя более кстати. Пресловутый сторож как бы поясняет: в современном жестоком мире для надежной защиты вашей жизни, собственности и деловых контрактов ему нужно быть не только вооруженным до зубов, но и опираться на готовность граждан поддержать любые меры по охране порядка, которые он предпримет. Таким образом понятие государственной безопасности предельно расширяется, следуя тенденции, наметившейся еще в позапрошлом веке. Государство больше не стремится к прямому контролю над жизнью граждан, однако навязывает им строгую технику безопасности, угрожая причислить нарушителей к террористам или педофилам. При этом власть не склонна брать на себя ответственность за экономические риски индивида: здесь, как считается, действуют законы рынка, согласно которым одни получают прибыль, а другие разоряются. Любая попытка поставить такое положение вещей под вопрос считается непристойным большевизмом, покушением на безопасность частной собственности и должна решительно пресекаться.
Странный парадокс: мы живем в обществе, где безопасность по всем основным параметрам, начиная от вероятности насильственной смерти и заканчивая гигиеническими нормами, явно выше, чем когда-либо прежде, но почему-то испытываем потребность отыскивать в окружающем мире всевозможные угрозы, а затем призывать на защиту государство. Вопреки пророчествам Ноама Хомского[5], новые технологии не освобождают граждан от опеки, но, напротив, становятся источником более утонченных, мягких, но и более глубоких способов контроля. В одной из недавних работ Славоя Жижека, посвященной проблеме насилия[6], дан оригинальный анализ этой проблемы. Жижек указывает, что безопасность превращается в медийную категорию. Зрители новостных программ и боевиков давно привыкли видеть на экране сцены жестокого насилия, разыгрывающиеся в отдаленных уголках планеты. Мы включаем телевизор, чтобы получить предсказуемую, разумно взвешенную дозу насилия, оттеняющую наше повседневное существование. Изображение насилия натуралистично, но безопасно, причем эта безопасность еще и иллюстрируется присутствием в кадре представителей государственных учреждений, профессионалов, чья деятельность защищает нас от различных форм агрессии. Что еще более важно, СМИ администрируют насилие, выдвигая на передний план его редкие и яркие вспышки, ограниченные в пространстве и времени, — то, что Жижек называет «насилием субъективным». В сравнении с погибающими от голода в беднейших странах число жертв террористических актов не так велико, но им уделяется непропорционально много внимания. Что же касается насилия объективного — реального и гораздо более шокирующего, если, конечно, мы можем его увидеть и осмыслить; насилия, проявляющегося в сборочных цехах азиатских компаний по производству ноутбуков, где за несколько долларов в сутки трудятся девушки-подростки, или в необходимости выплачивать ипотечный кредит, дающий право через несколько десятков лет стать собственником ветшающего жилья в неблагополучном районе, — такое насилие оттеснено на задний план и мало интересует современные СМИ.
«Охранники», «сторожа», «телохранители», «секьюрити» — все эти слова вошли в широкое употребление, а стоящие за ними реалии стали неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Индустрия безопасности активно развивается, превращаясь в одну из самых удачных форм частно-государственного партнерства.
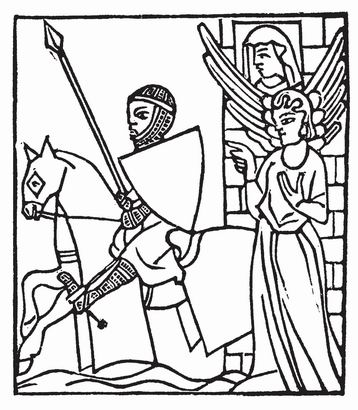
Государство оставляет за собой право регулировать отношения безопасности, однако, следуя либеральным установкам, стремится к приватизации соответствующих услуг. Частные тюрьмы, частные фирмы для ведения военных действий[7], частные кибернетические сети, защищающие пользователей от злоумышленников, а заодно и от потенциально неудобной информации... Такова цена безопасности без границ, которую мы платим уже сегодня или начнем платить в самом ближайшем будущем. Как оценивать эту тенденцию?
Критика экспансии государства в область охраны граждан, как видно из сказанного выше, развивается прежде всего в контексте противопоставления «безопасности» и «свободы»; при этом ставится под сомнение упомянутый нами тезис «безопасности не бывает слишком много», ставший после 11 сентября 2001 года почти аксиомой. Эта критика, восходящая к классической дискуссии Локка и Гоббса о природе человеческих сообществ, предполагает ряд простых вопросов. Например, готовы ли мы в обмен на предполагаемую большую безопасность авиаперелетов подвергаться унизительному досмотру в аэропорту? Готовы ли мы передавать полную информацию о наших перемещениях по городу в полицейские базы данных ради того, чтобы облегчить поиски злоумышленников и снизить уровень преступности в районе, где находится наш дом? Список таких дилемм может оказаться чрезвычайно длинным. «Свободы никогда не бывает слишком много», — так звучит встречный лозунг, который выдвигают многочисленные критики «войны с террором», не имеющей четко определенного врага, не знающей окончательной победы и по сути сопоставимой с оруэлловской нескончаемой бойней во имя мира. Основная ценность западной цивилизации, заявляют они, — это свобода, и некоторое снижение безопасности входит в цену, которую мы должны платить за сохранение нашей культуры.
Ограниченность подобной критики вполне очевидна, поскольку «безопасность» — а тем самым и «свобода» — в этой дискуссии выступают как пустая абстракция. Здесь не анализируются и не учитываются происхождение понятия безопасности, особенности социальных групп, ведущих за нее борьбу, роль, которую в этой борьбе играет либеральное государство. Если о свободе написано очень много, то безопасность до сих пор считается чем-то естественным и самоочевидным, не нуждающимся в дальнейшей экспликации. Между тем в определенной перспективе легко продемонстрировать, что свобода и безопасность не противопоставляются друг другу, так как наличие или отсутствие свободы можно зафиксировать лишь для уже заданной и упорядоченной системы правил. Для того чтобы индивид, скажем, мог быть свободным от «общественных предрассудков», должны существовать и общество, и предрассудки — причем регулярные, а не хаотические. Стандартная либеральная концепция свободы как невмешательства государства в частные дела граждан исходит в конечном счете именно из такого объединения двух понятий. Таким образом, исторические и содержательные границы понятия безопасности чрезвычайно размыты. Подобная безопасность, понимаемая как естественная данность, вне какой-либо рефлексии, может в действительности оказаться опасной идеологической конструкцией.
Одна из самых важных и до сих пор недооцененных в российской исследовательской традиции попыток осмысления этого концепта была предложена Мишелем Фуко. Его лекции «Безопасность, территория, население» и «Рождение биополитики»[8], прочитанные в 1977—1979 годах в Коллеж де Франс, посвящены анализу специфической триады безопасность — управленчество — биополитика и представляют собой масштабный эскиз теории происхождения современного либерального государства. Как и в рамках других своих исторических исследований, анализирующих понятия тюрьмы или психиатрической лечебницы, Фуко демонстрирует культурные корни идеи безопасности, связывая их с определенным режимом господства, который берет начало в дисциплинарных обществах Нового времени, и затем выводит эти общества на качественно новый технологический и идеологический уровень.
Тема безопасности занимает особое место в наследии Фуко. Понятие биовласти, введенное им в научный оборот в 1976 году, фактически раскрывается именно в циклах интересующих нас лекций, прочитанных в последующие семестры. Позже внимание исследователя сместится в область герменевтики субъекта, истории телесных практик, связанных с нормализацией удовольствия; результатом станет его последний труд — «История сексуальности». В современной западной политической теории идеи Фуко, связанные с биополитикой и историей либеральных форм господства, становятся ключевыми; аналитика биовласти ныне входит в число основных интеллектуальных инструментов политических философов. Достаточно вспомнить оригинальную концепцию homo sacer, развитую Джорджо Агамбеном[9], который ставит на одну доску современные неолиберальные государства и тоталитарные режимы прошлого. Фуко остается, пожалуй, одним из самых востребованных сегодня мыслителей XX века. В определенном смысле он сумел предвидеть круг наших сегодняшних проблем: исламизм, безопасность, логика либерального правления, амбиции «ночных сторожей» и, по-видимому, главное — методы, с помощью которых эти «сторожа» формируют микрофизику власти.
В общем виде идею курса «Безопасность, территория, население» можно сформулировать так. Развитие государства в эпоху Нового времени выражается в постепенном изменении принципов правления и конструирования властных отношений. От государства-империи, осуществляющего господство над некоторой территорией, мы перешли к государству-нации, которое управляет населением. Территория — это понятие, пришедшее из географии и геополитики; его политическим коррелятом выступает суверенитет. Логика суверенитета относительно проста: это бинарные оппозиции «своего» и «чужого», система запретов и разрешений, однозначно разграничивающих пространство. Античный мир вполне осознавал территориальную концепцию власти, на которой строилось и знаменитое противопоставление варваров и цивилизованных людей: одни считались исключенными из сферы влияния империи, другие проживали на ее территории и принадлежали к ее культуре. А вот концепции населения как совокупности индивидов, находящихся под неустанным надзором и являющихся предметом заботы со стороны государства, Античность не знала. Рим не имел полиции (напомню, изначально die Polizei — не только криминальная полиция в современном смысле слова, но принцип организации жизни в государстве, предполагающий всесторонний контроль над жизнью поданных, в том числе образовательный и медицинский) и не создал демографии — науки о приросте и качестве населения; не было там, насколько известно, и своего Мальтуса. Все это, с точки зрения Фуко, не случайно.
Переход к господству над населением Фуко объясняет развитием и адаптацией иудеохристианских политических идей, стержнем которых является представление о государе-пастыре. С их утверждением государь становится не просто сувереном, которому подвластна некоторая территория, но и пастырем своего народа, нуждающегося в управлении и опеке. Формирование пастырской власти подробно анализируется Фуко на протяжении большей части лекционного курса. Особенно сильны, замечает он, соответствующие тенденции в России — причем они дают о себе знать и в конкретной политической практике, и в качестве распространенного политического мифа, или идеала. В лекции от 15 февраля 1978 года Фуко приводит письмо Гоголя к Жуковскому, где писатель рассуждает о фигуре возлюбленного народом государя как воплощении совершенного политического режима.
Развитие пастырской власти, в свою очередь, инициирует, с одной стороны, формирование механизмов безопасности, понимаемых как проявление естественной заботы пастыря о своем стаде, а с другой — серии антиповодырских[10] выступлений, ставящих под сомнение легитимность власти государя, начиная от пуританского аскетизма XVI века и заканчивая социалистической революционной утопией XIX столетия. В своей совокупности эти факторы определяют историю современных форм государственной власти.
Уместно напомнить, что Фуко настаивал на расширенном понимании этого понятия. Государственная власть — это не только сами политические структуры правительства и судов, но и то, как государство считает нужным осуществлять надзор за поведением индивидов. Именно в этом смысле ее понимают мыслители XVI века — эпохи, решающим образом повлиявшей на переосмысление этого концепта. Здесь Фуко постулирует свою знаменитую идею о сосуществовании двух уровней господства — макро- и микровласти, включая в состав последней процессы и правила, оставляемые без внимания обычной политической наукой (профессиональную, гендерную и сексуальную этику, всевозможные кодексы поведения, представления о норме, бытующие в данной социальной среде). Антипастырские выступления (Фуко намеренно не называет их «антигосударственными») в конечном счете подразделяются на три больших кластера, ставки в которых делаются на «гражданское общество», способное сокрушить государство и заменить его добровольными ассоциациями граждан; революцию как насильственное прекращение «старого режима»; наконец, нацию, то есть идеологию, исходящую из того, что суверена на данной территории замещает собой население. Примечательно, что Фуко отказывается признать за всеми этими стратегиями способность разрушить режим господства или по меньшей мере ограничить могущество государства. Напротив, он стремится продемонстрировать, как именно сопротивление власти поводырей инкорпорируется в состав современных либеральных моделей подавления и надзора.
Пастырская власть находит своего преемника в идее государственного интереса, raison d'Etat, получающей оформление к XVII веку и предполагающей, что государство является носителем политической истины и высшей формы рациональности, не требующей дополнительных оснований. Отныне все действия государства совершаются во имя государственного интереса, и оно заявляет о своем вечном существовании; накопление и распределение ресурсов, как территориальных, так и биополитических, уже не имеет никакой конечной цели — в отличие от христианской политической философии, сохранявшей библейские представления о конце истории. Безопасность населения также становится государственным интересом; стремительно внедряются меры, направленные на ее поддержание: это и борьба с голодом, и гигиенические и эпидемиологические кампании, и военные приготовления, преследующие накопление «живой силы». Система внешних государственных интересов складывается после Вестфальского мира: Фуко говорит здесь о «военно-дипломатической технологии, которая заключается в накоплении и приумножении сил государства посредством системы союзов и аппарата армии»[11]. Внутри государства обеспечение его интересов возложено на полицию, в уже упомянутом нами расширительном смысле слова.
Говоря о безопасности как таковой, Фуко вводит это новое понятие — наряду с суверенитетом и дисциплиной, обсуждавшимися в его более ранних работах, — как еще один принцип господства. Вопреки напрашивающейся интерпретации, он не считает, что безопасность противопоставляется дисциплине или ее отменяет. Напротив, в его логике дисциплинированные тела дополнительно направляются и организуются системой юридических правил, созданных ради безусловного сохранения безопасности. Ясно, что для Фуко вопрос о взаимодействии между этими тремя формами господства представляет большой теоретический интерес, но в своих лекциях он оставляет его до некоторой степени открытым.
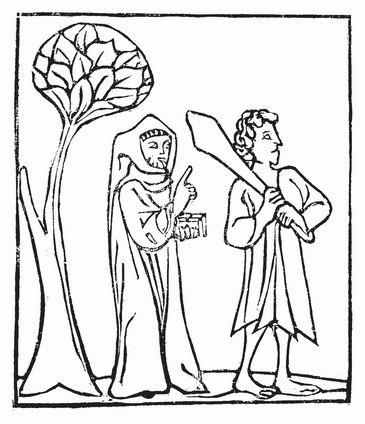
Итак, население существует теперь в треугольнике суверенитет — дисциплина — безопасность. Если суверенитет действует как простейшая бинарная система запретов и предписаний, если дисциплина предписывает определенную форму поведения, направленную на увеличение эффективности использования тел, и организует себя через систему сквозного микронадзора в духе бентамовского Паноптикона, то безопасность представляет собой качественно иной регулятор. Безопасность опирается на некоторое «обычное поведение» и определяет границы приемлемых отклонений от такого поведения. Иными словами, в отличие от дисциплины безопасность не предписывается, но «обнаруживается». Механизмы безопасности активизируются только в том случае, если замечены следы выхода за средние значения поведения. Поэтому безопасность с самого начала полагается как некоторая естественная, не изобретенная вновь практика. С этой точки зрения безопасность напоминает «интерес» в общем смысле слова, как он понимается классической политэкономией, — то есть рациональный поиск выгоды для субъекта. Здесь происходит очевидное сближение безопасности и государственного интереса.
Между дисциплиной и безопасностью, вне зависимости от желания Фуко, для которого последнее понятие обретало свой смысл именно как дальнейшее развитие идеи дисциплинарного общества, обнаруживается серьезный разрыв. Дисциплина, например, стремится к искоренению бродяжничества и нищеты, тогда как безопасность ставит вопрос о допустимой мере этих явлений. Безопасность преподносится как новая форма государственной рациональности, сумма убытков и доходов, связанных с принятием тех или иных мер. Финальные решения вообще отменяются, вместо них вводится нечто вроде принципа малых дел. Терроризм, как и бедность, вероятно, нельзя искоренить до конца, но против него можно вести эффективную борьбу и наблюдать постепенные (и бесконечные) «улучшения ситуации». Так государственный интерес начинает действовать не в режиме нормативного целеполагания, но в форме Realpolitik, и это знаменует окончательный разрыв с пастырством. Власть уже ничего не может обещать населению — кроме того, что постарается сделать «все возможное в данных обстоятельствах».
Государственное управление отныне полностью сводится к управлению населением, или к биовласти. Население становится предметом неусыпной заботы, направленной на охрану здоровья и гигиены, повышение эффективности труда. Предметом политики становится человеческое тело.
В ходе своих рассуждений Фуко совершает любопытную переинтерпретацию понятий, на которой стоит остановиться отдельно. Во время лекции 1 февраля 1978 года он заявляет, что, если бы у него была возможность, то он изменил бы тему курса, назвав его не «Безопасность, территория, управление», а скорее «Лекции об управленчестве». По сути то, что в первых лекциях называлось им европейскими механизмами безопасности, теперь получает новое именование — «управленчество». Существует версия, что основным мотивом такого высказывания Фуко могли быть соображения, обусловленные ненужными этатистскими и статичными коннотациями термина «безопасность».
Нужно отметить, что в русском языке пока нет общепринятого перевода для этого неологизма Фуко (gouvernementalite). Переводчики лекций избрали термин «управленчество», другие авторы предпочитают «правительность». Руслан Хестанов в обстоятельной статье, посвященной анализу либерального государства у Фуко[12], справедливо поясняет, что смысл термина gouvernementalite передать не так просто. В обсуждаемых нами лекциях он отсылает и к правительству, gouvernement, и к мышлению, привычкам, mentalite, указывая таким образом на основную функцию понятия безопасности в системе мышления позднего Фуко, где она становится ключевой метафорой, отвечающей за распределение и взаимодействие макро- и микрофизики власти. Как уже говорилось, первая является обычным предметом политической теории, мыслимой как теория государства, последняя же традиционно остается в тени. Еще в своих ранних трудах, таких как «История безумия в классическую эпоху», Фуко акцентирует внимание на микровласти, которая находит опору в образе действия и мышления самого человека. Власть — это не вещь, находящаяся в собственности государства, или его магическое свойство. Государственная политика вырастает из низовых повседневных практик и представлений людей о норме. Классическое определение государства Макса Вебера, приписывающее власти «монополию на легитимное насилие», апеллирует именно к этой истине. Государство создается не вследствие маниакальной экспансии воли правителя, а опирается на психологические модели, привычки, опыт рядовых представителей «населения». Именно они в конечном итоге являются творцами власти, той инстанцией, которая генерирует и упрочивает режимы господства. Безопасность — своеобразный прием, позволяющий обеспечивать связь между государственной властью и практиками «нормального поведения». «Делайте только то, что признается безопасным в разработанных нами инструкциях, ведь это в ваших собственных интересах», — так можно сформулировать способ управления, характерный для либерального государства. Этот прием вовсе не является нейтральным, «естественным» и тем более — единственным, который может обеспечить существование человеческого общежития.
Под управленчеством, таким образом, понимается механизм, позволяющий государству как бы передавать управление обществом в руки индивида, который, однако, действует в рамках предписанных ему режимов безопасности. Эсхатологические ожидания гибели или обесценивания государства под натиском общества (вспомним знаменитый публичный диспут Фуко и Хомского о природе человека) оказываются в итоге частью новой стратегии государственного правления. Либеральное государство и сопутствующее ему «гражданское общество», говорит Фуко, порождаются сложной диалектикой, в которой, с одной стороны, выступает поводырская власть и нормализация дисциплины, а с другой — антиповодырская утопия о конце государства и его исторического времени, а также перемещение центра господства в сферу безопасности. В этом ключе Фуко трактует парадоксальные ситуации, известные, в частности, из русской истории, — когда архаические религиозные общины разлагались, превращаясь в атеистические коммуны, а традиционная форма пастырства, идеализируемая Достоевским, сменялась новым, куда более жестким пастырством сталинизма.
Прямое вмешательство государства в жизнь общества замещается по мере развития либерального правления набором дистанционных сигналов. Дисциплина и нормализация постепенно приватизируются: «гражданское общество» в лице своих многочисленных коллективных и индивидуальных агентов добровольно принимает на себя функции по обеспечению безопасности, то есть нового режима господства. Именно здесь возникает безопасность как высшая, не подлежащая обсуждению форма блага, во имя которой становится возможным объявлять о надлежащих правилах поведения («не стойте под стрелой», «не пытайтесь самостоятельно покинуть кабину лифта в случае аварии» и множество других аналогичных предписаний на бытовом уровне). «Индивиды должны превратиться в "экспертов, специализирующихся на себе самих", практиковать культурную и просвещенную заботу о своем теле, сознании, формах поведения, а также о теле, сознании и формах поведения членов своей семьи»[13]. Приватизация и рассредоточение режимов господства описываются при этом в терминах повышения эффективности и благоденствия, причем это описание выносится за скобки отношений гражданина и государства: «Гражданин-потребитель становится активным агентом безопасности, гражданин-работник становится активным агентом модернизации промышленности»[14]. Слоган о безопасности в московском метро, с которого мы начали статью, выражает желание и даже прямое повеление граждан-пассажиров. Более того, они сами его и произносят.
Тот же переход можно обсуждать в рамках противопоставления оседлости и мобильности. Дисциплинарные, долиберальные режимы господства предписывали надлежащее поведение каждому отдельному элементу системы: солдат должен жить по уставу и соблюдать определенный распорядок дня, рабочий должен подчиняться правилам, установленным на предприятии. Объектом изоляции выступал в этих условиях тот, у кого нет своего собственного места, предписанного дисциплиной, — бродяга, сумасшедший, больной. Либеральные режимы, приватизировавшие режимы господства через внедрение безопасности, научились управлять принципиально иным населением: фрилансерами, наемными работниками, мигрирующими по миру, «креативным классом», не знающим дисциплинарной и принудительной оседлости, но, напротив, считающим себя свободным в выборе способа существования. Безопасность сделала дисциплину предметом внутренней гордости для населения неолиберального государства, мечта об эффективности управления собственным телом была дополнена грезами об успехе, который приносит эффективное управление собственной судьбой, превращение собственной жизни в капиталистическое предприятие, добровольно подчиняющееся законам рынка. Население получило право называть себя «гражданским обществом», чтобы обеспечить государству нового типа бесконечное благоденствие.
Концепция Фуко хорошо объясняет шок, который западному миру, с его привычными представлениями о безопасности, пришлось пережить после 11 сентября 2001 года. Для наблюдателей, стоящих на антиэтатистских позициях, самым удручающим опытом стала тогда не трансформация государственной политики и реакция СМИ, а готовность общества без особых раздумий участвовать в раздувании всеобщей подозрительности и антиисламских настроений, активно приветствуя сворачивание гражданских свобод. Оставляя в стороне конспирологические версии, объясняющие те трагические события и их непосредственные следствия целенаправленными действиями американского правительства или даже каких-то тайных организаций, стоит задаться вопросом: не было ли подлинным автором лозунга «Безопасность любой ценой!» гражданское общество? Но если так, то не имеет смысла редуцировать проблему безопасности к государственной политике и государственным амбициям: при подобном подходе мы не увидим сути современного управленчества, которое постоянно воссоздает себя в рамках заботы о населении. Наше внимание должен привлекать не «Патриотический акт», а вполне демократический режим, питавшийся теми же grassroots, из которых вырастала политика администрации Буша-младшего и его последователей. Речь идет о сдвиге в общественном сознании, проявляющем себя не только (и не столько) в том, как население относится к защите от терроризма, но и в формирующейся системе надзора за поведением граждан: родителей по отношению к собственным детям, мужчин-работодателей — к женщинам-подчиненным и т. п. Настойчивая готовность властей заботиться о соблюдении прав ребенка, бороться за политкоррект-ность и против дискриминации, а также наша толерантность к этой посреднической миссии государства, которое, вытесняя прежние способы саморегуляции, встраивает свои механизмы безопасности во все социальные пространства, — все это анализируется Фуко в том же контексте, что и война с терроризмом. Родители как потенциальный источник насилия отождествляются в общественном сознании с террористами или преступниками, государственная безопасность становится неотличимой от режима безопасности, установленного в детской комнате. Отсюда взрыв security studies, переживаемый сегодня западным миром. Большой брат активно интериоризируется сегодня нормализованным субъектом, окруженным гигиеничными вещами, заботливым государством и ироничными СМИ.
В российском контексте выводы Фуко окрашиваются характерным национальным колоритом. Несмотря на тяжелую память о революционных потрясениях XX века, наше общество еще не преодолело привычку к патернализму, явно не прошло стадию антиповодырческой рефлексии и как следствие не перешло к либеральному правлению. Отечественная версия gouvernementalite сегодня связана с традиционным для России желанием заимствовать передовой опыт Запада: примерами могут служить попытки механически импортировать практики вроде ювенальной юстиции, которые — в отличие от аутентичной логики либерального управленчества на Западе — насаждаются сверху и встречают негативную реакцию у населения. Наблюдающаяся в последнее время архаизация российского общества приводит к возобновлению запроса на государя-пастыря, с которым ассоциируется «русский путь», «национальная идея» или иной хилиастический смысл существования для «населения». «Политическая и суверенная нация», «гражданское общество», «революция» присутствуют как концепты не в массовом сознании, а лишь в языке малочисленной вестернизованной интеллигенции. Не случайно ее представители мыслят свое существование в России в терминах обеспечения безопасности[15].

[1] Фуко М. Безопасность, территория, население. СПб., 2011. С. 25—26.
[2] См., например: Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006; Colomer J. M.. Great Empires, Small Nations. The Uncertain Future of Sovereign State. 2007.
[3] Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. М., 2005.
[4] См. интервью Кима Доткома в The Guardian от 18 января 2013 года: http://www.guardian.co.uk/technology/video/2013/jan/18/interview-kim-dot...
[5] Хомски Н. Государство будущего. М., 2012.
[6] Жижек С. О насилии. М., 2011.
[7] См.: Уэсселер Р. Война как услуга. М., 2007.
[8] Фуко М. Безопасность, территория, население. СПб., 2011; Фуко М. Рождение биополитики. СПб., 2012.
[9] Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011.
[10] Термины «поводырь» и «пастырь» в контексте описания модели власти используются Фуко как синонимы.
[11] Безопасность, территория, население. Цит. изд. С. 471.
[12] Хестанов Р. Либеральное правительство: технологии управления // Пушкин. 2009. № 3.
[13] См.: Rose N. Governing “advanced” liberal democracies // Foucault and Political Reason (ed. by A. Barry, T. Osborne, N. Rose). Chicago University Press, 1996. P. 59.
[14] Там же.
[15] См., например: Бершидский Л. Мистер Хайд в Большой Капусте. URL: http://www.snob.ru/selected/entry/56635
