Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».
Уважаемые читатели и авторы.
«Эгоист идеи»
(А. В. Сухово-Кобылин: pro et contra. Антология)
А. В. Сухово-Кобылин. Pro et contra. Антология. Спб.: РХГА. Серия «Русский путь», 2010. 767 с.
В последнее время книжные серии соперничают с кинематографическими по интенсивности своего возникновения. Наличие тематических линий — отличительный знак всякого уважающего себя издательства. Признак comme il faut.
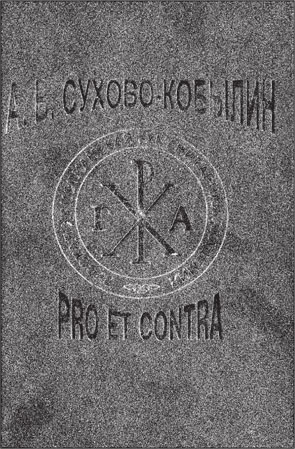
Издательство Русской христианской гуманитарной академии порадовало читателей очередным изданием в серии «Русский путь» — «А. В. Сухово-Кобылин: Pro et Contra».
Цикл изданий был задуман в 1990-х годах в рамках исследований РХГА. «Русский путь» — это визитная карточка академии, самый известный ее проект, вышедший далеко за академические рамки, долгий и отчасти самостоятельный, лишь внешне отождествляемый с alma mater благодаря узнаваемости солидных томов в однотонных твердых обложках с золотым тиснением. За 18 лет издано 40 томов, правда, очень разных, неровных. Тем не менее это масштабный и очень серьезный капитал. Бывали годы, когда в свет выходило сразу несколько объемных, почти тысячестраничных книг с научными комментариями.
Авторы проекта выбрали простой и по сути тривиальный маршрут — вдоль именных вех. Поэтому «Русский путь» не случайно открывался в 1993–1994-м первой знаковой фигурой — антологией «Николай Бердяев. Pro et Contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке отечественных мыслителей и исследователей». Эта первая книга задавала формат и структуру последующих: при всей пестроте обсуждения «монографическая фактура» читателю подавалась в двух типах материалов — документальные источники (письма, мемуары) и критика, научные статьи. Предполагалось, что интеллектуальный конфликт, столкновение интерпретаций станет основой всей серии и по этому принципу будет строиться каждый том.
В списке значительных новинок серии — одно из последних изданий РХГА «Даниил Андреев: pro et contra»[1]. «Это — первый научно подготовленный свод публикаций об одном из самых ярких и странных персонажей русской культурной и духовной истории ХХ века, включающий в себя примерно столько же разделов, сколько было видимых миру сторон у этой мало с кем сопоставимой личности»[2].
Литературная серия вообще богаче и насыщеннее остальных. Перед ней меркнет и кажется отчасти произвольной философская, теологическая, политическая, научная «линейка». Не закрывают зияющих лакун опубликованные и практически не замеченные антологии о Павлове и Вернадском, «книги, посвященные Петру I, Екатерине II, К. П. Победоносцеву». Авторы проекта немного простодушно обещают провести в скором времени реструктуризацию всего проекта, в качестве аргумента упоминая гарантированную поддержку РГНФ. Но сможет ли фонд компенсировать отсутствие научных школ, неразобранность и закрытость архивов, «непрочитанность» огромных пластов, буквально залежей исторических источников, утрату или отсутствие культуры комментирования — всех тех болезней, что мы приняли? Да и что пенять на советское и постсоветское наследство, ведь мы не лечили застарелые хвори, которыми давно заражена гуманитарная мысль, а лишь усугубляли их. Собственно, «Русский путь» в целом и каждый выпуск в отдельности — в той или иной степени история наших гуманитарных практик, «медицинская карта» нашего умственного здоровья и недугов. Сегодняшних. Современных. Для понимания ситуации необходимо медленное чтение книги. «Сухово-Кобылин. Pro et Contra» — как раз такое трудное чтение. И одновременно чрезвычайно благородное занятие. Если этот том поставить в солидный ряд других книг серии, то сразу станет понятным, насколько «Сухово-Кобылин» проигрывает: знатоков и ценителей его неупорядоченного наследия несопоставимо меньше по сравнению с другими авторами, обросшими огромными национальными литклубами фанатов, имеющими долгую историю и традиции. Подобные книги-своды, компендиумы, кроме познавательных, просветительских целей имеют еще одну функцию — свидетельскую, поскольку показывают состояние дел в этой литературной партии, корпорации литературных болельщиков самого разного сорта. Корпорация живет по своим внутренним законам, время от времени в ней происходят академические конфликты, дележ территорий, войны внешние и внутренние, пересматриваются границы. Чем плотнее корпорация, чем активнее исследовательские механизмы, тем заметнее они выступают в качестве местоблюстителей своего объекта исследования, постепенно отождествляясь с ним и незаметно адаптируя его к собственным нуждам. Синдром сближения, срастания, иной раз подмены важен для понимания структуры и академического стиля этого клуба, этой литературно-критической секции. При попытках интерпретации такого рода компендиумов неизбежно приходится учитывать незащищенность автора и субъективную волю составителей, принимавших решение, что предъявить публике, а что по тем или иным причинам оставить сокрытым от нее.
Разбираться с Сухово-Кобылиным и легко и трудно. Жил он долго, восемьдесят с лишним лет (1817–1903), косвенно участвовал во всех сменах политических и культурных вех русской истории середины XIX — начала XX века и при этом для современников и потомков ухитрился остаться «человеком сороковых годов». Принято считать, что Сухово-Кобылину удалось как-то успешно «окуклиться», застыть в своем времени — нарочито отжитым, открывшим какие-то парадоксальные «прорывные» возможности архаичного текста, не совпавшим ни со своим временем, ни с прошедшим, ни с будущим. Метнувшимся куда-то в другую историю, да так и застрявшим где-то со всеми своими несуразными странностями, проклятиями, удивительной живой виртуозной русской речью, обернувшейся мертвыми тяжелыми словесными глыбами, речевым бастионом, ощетинившимся заграждениями «входа нет». Трудно не согласиться с одним из тех, кто все же прилагал усилия проникнуть внутрь этого панциря, преодолеть препятствия и писал о комедиях Сухово-Кобылина: «Почему они мало известны в читающей публике? Потому что читающая публика их не читала. А не читала она их потому, что Сухово-Кобылин не позаботился о том, чтобы они годились для чтения. Издание трилогии (1869) — монстр, а не книга: дикая орфография, фантастические знаки препинания, причудливая «гегелианская» манера начинать прописною буквою все существительные мало-мальски отвлеченных понятий (Власть, Дух, даже Казус и Начальство!) — вычурные эпиграфы, чудаческие предисловия. От печатных страниц трилогии сперва веет курьезом, а потом уже талантом, — ну а охотников выкапывать талант из-под курьеза на Руси покуда еще очень немного»[3].
За всю жизнь — три пьесы и бесконечный уродливый кокон философского текста. Лелеемая петля. Любимая удавка, в конце концов задушившая хозяина. Сухово-Кобылин не справился с химерическими порождениями языка и мысли. Сначала перевод Гегеля, потом собственное гегельянство, а русское постгегельянство в 1860–1900-х годах, как известно, — уже крайняя форма умственной болезни, наконец, отдельная философская система «Всемир». Лучше не приводить цитат. Все это тем страшнее, чем прочнее и убедительнее располагается в сложной системе координат, кропотливо слепленной автором. Не очень-то уютно, когда невозмутимость рациональных выкладок, подсчетов и формул (автор в 1834 году окончил физико-математическое отделение Московского университета) взрывается чем-то вроде «Ужо тебе!» — обвинительными вставками, почти дневниковыми объяснениями, почти газетными, журналистскими, публицистическими вкраплениями, придающими некоторое своеобразие и новизну самой природе жанра философского трактата.
Сколько бы ни объясняли сухово-кобылинские несуразности, провалы, удачи, парадоксальную живучесть, все равно художественная, умственная, филологическая подоплека этих текстов остается не разгаданной до конца. Что-то не так. Не сходится. Литератор от природы (да и многие тогда в том кругу 1830–1840-х литераторствовали), имевший через родную сестру писательницу Евгению Тур (Елизавету Васильевну Сухово-Кобылину (Салиас де-Турнемир)) непосредственное отношение к литературной кухне той поры и к одному из самых известных московских кружков, Сухово-Кобылин по взаимному «согласию» вдруг резко порывает с тогдашним литературным миром. И все его тексты-поступки, публичные, эпистолярные выступления проклинают литературный цех разом. Правда, список «проклятых» и персонально виноватых — это скорее абстракция, которая не сильно уточняется даже благодаря привлечению и сопоставлению конкретных публикаций. Виновато… устройство. Универсум. Обстоятельства. В этот перечень попадают имена критиков, цензоров, театральных чиновников. Среди писателей-современников особенно достается Островскому, Льву Толстому. Глухая ненависть к ним — предмет отдельного разбирательства. Многое современное игнорируется, вычеркивается, попросту не существует в сухово-кобылинском сознании. Возникает подозрение, что его язык, особый, ни на что не похожий, даже в пьесах, когда речь вроде бы узнает себя и не случайно рассыпается на отдельные реплики, вошедшие в отечественный культурный обиход, — обусловлен желанием «насолить», отомстить, во что бы то ни стало отмежеваться от того салонного словоизвержения, от тех потоков светской беллетристики, которыми захлебывалась литература. «Ужо тебе!»
Чувствительность к слову Сухово-Кобылина трудно преувеличить. Забавны его напоминания о том, что его «золотое» сочинение, написанное по окончании университета, сугубо математическое «О равновесии гибкой линии…», имеет стилистическое значение. Забавно и больно читать его постоянные возвращения к обидной истории про то, как в «III отделении Соб. Е. В. Канцелярии Ценсор Гедерштерн… восстал на слог, который признал тривиальным и невозможным на Сцене, и когда я намекнул на его Некомпетентность как Германца судить мой русский слог — то он, бросивши на меня свирепый взор, объяснил мне коротко и ясно, что пьесу мою Запрещает»[4]. Забавно и больно видеть, как монструозный «русский Гегель», гнездясь сначала только в переводах и философских выкладках, начинает расширяться, пучиться и выползать, захватывая все большее пространство — шкафы, комнаты, дом, обыденную речь. Что-то произошло. Сломалось? Или, наоборот, восстановилось неизбежно, как подспудная реакция архаики, невозможного русско-немецкого или немецко-русского симбиоза, как желание остановить, отторгнуть, отрыгнуть беллетристическо-журнальный разгул XIX века? Сухово-кобылинская «немецкость», думается, — симптом. Симптом подобных уходов из своего в чужое. И кстати вспоминается Марк Твен, о котором есть упоминания в сухово-кобылинских записных книжках 1880-х[5], очень точно, примерно в то же время, с точки зрения британца, англосакса, смешно охарактеризовавший эти германские языковые свойства: «Она поступала совершенно как немцы: когда ей хотелось что-нибудь сказать, все равно что — ответить ли на вопрос, произнести ли проповедь, изложить ли энциклопедию войн, — она непременно должна была всадить все целиком в одну-единственную фразу или умереть. Так поступает и всякий немецкий писатель; если уж он нырнет во фразу, так вы не увидите его до тех пор, пока он не вынырнет на другой стороне своего Атлантического океана с глаголом во рту»[6]. Похоже, немцы были для Сухово-Кобылина особым средством обращения с русским материалом. Защиты? О другом, разумеется, совсем о другом Мандельштам: «Себя губя, себе противореча, / Как моль летит на огонек полночный, / Мне хочется уйти из нашей речи…». Но в истоке своем — счет схожий.
После роковой даты 7 ноября 1850 года — загадочного убийства любовницы-француженки Луизы Симон Диманш, к которой Сухово-Кобылин к тому времени давно охладел, — он действительно, состоя под подозрением и угрозой крупной, разорительной взятки, зафиксировал перелом в собственной жизни и начал «сочинять себя» как жертву обстоятельств, бюрократической машины и губительного государственного устройства. Что это? Литературный уголовный роман или длинная мелодрама, в которой посмертный культ «убиенной Луизы» — центральный эпизод? «Святая и тихая жизнь сердца, не ценил я тебя, когда ты проникала все мое существо, а теперь, когда в сердце моем страшно пусто, знаю я твою цену и свято храню воспоминания. Как нежная и легкая роса после денного жара возникают в памяти малейшие события, слова, иногда только взгляд или движение, и мило, и нежно становится на душе»[7]. Такие пассажи «прошивают» дневники Сухово-Кобылина. «Эгоист идеи», как назвал Сухово-Кобылина один из его знакомых, с той самой роковой даты он создает один сплошной «неподвижный палимпсест»[8]. В нем поверх казенных документов, касающихся уголовных процедур, прорастают драматические тексты-трилогии, а где-то рядом совершается систематическое вытеснение и «убийство» живой речи в гегелевских переводах и самостоятельных философских штудиях. Параллельно — эпистолярное творчество, бесконечные варианты и многие списки одного и того же письма с перечнем обид и обидчиков. К 1870–1880 годам все отчетливее укрепляется роль жертвы, растут личный счет и списки мерзавцев — литераторов, чиновников, критиков, всех, кто так или иначе причастен к гибели и разорению России. Этот «неподвижный палимпсест» создает целый инструментарий обвинительных инвектив, целую культуру обиды и обвинений. Истоки этой сугубо личной, частной, а вместе с тем и общей, долгой драмы — в несовпадении, разладах, в конце концов, отчаянном распаде собственной биографии, всего уклада отечественной жизни. Драмы, которая отчасти была плодом художественной воспаленной фантазии, но во многом оставалась страшным фактом, многократно проверенным, оплаченным и подтвержденным.
Трудно быть поклонником Сухово-Кобылина. Их немного. Все они наперечет. Выразительнее всего характеризует положение нашего персонажа реальный провал, тридцатичетырехлетнее отсутствие в публичной отечественной жизни. За это время выросло несколько поколений. Литературная смерть наступила в 1869 году, когда в Москве вышли «Картины прошедшего», а два отклика[9] (особенно последний) вынесли ей приговор: «… Из предисловия, написанного к этой пьесе, нельзя ничего понять, кроме того, что люди, не умеющие писать по-русски, с особенной охотой прибегают к пословицам… Можно наперед сказать, что немного найдется людей, которые поймут эту шараду»[10]. Молчание было нарушено только после реальной смерти Сухово-Кобылина.
Воскрешение Сухово-Кобылина и пути его воскресителей интересно проследить. Эта тема могла бы стать стержневым сюжетом книги. Почему вдруг скудный анонимный некролог[11] и несколько мемуаров и зарисовок[12] произвели столь мощный гальванический эффект, не прекращающийся и поныне? Почему вспышки реконструкций приходятся на определенные периоды XX века и по-разному возвращаются практически каждое десятилетие: 1910-е, 1920–1930-е , 1940-е, 1950- е и т. д.? Какие методы гальванизации применяются? Какую цель преследуют воскресители? Не в 1910–1914-х ли «серебряных» годах произошел первый толчок? Не в 1920–1930-х ли впервые сложилась внятная конструкция? Не два ли Гроссмана, Виктор и Леонид, впервые в публичном споре задали pro et contra, продиктованные временем? Виноват ли Сухово-Кобылин в убийстве своей любовницы-француженки? Не вписывалось ли уголовное дело семидесяти-восьмидесятилетней давности в авантюрно-криминальную ситуацию новой советской жизни? И не вызывало ли оно живейший интерес именно потому, что занималась заря политических процессов, в которых самая резкая уголовщина смешивалась с политикой? Не оказался ли Сухово-Кобылин биографически и стилистически удобной фигурой, хорошо усвоенной новой эпохой? Не пришелся ли он ей «по зубам»? «Гроссман к Гроссману летит, Гроссман Гроссману кричит:… в чистом поле под ракитой труп француженки убитой…»[13]. И в конце концов, не напоминает ли это бесконечный сюжет романа «Франкенштейн», экранизация которого пришлась на конец 1930-х годов, а одна из финальных серий — семисотстраничный том о Сухово-Кобылине в серии «Русский путь» — создана в наши дни?
Главный составитель книги Виктор Селезнев — человек «со стажем» в филологии, в правозащитном движении и в сухово-кобылинской «корпорации». Первая публикация В. Селезнева о нашем герое относится еще к студенческой поре и написана в духе советского литературоведения 1950-х.[14] Думается, столь долгая верность теме дает право внимательно отнестись к автору и, видимо, теперь к семейному или родственному «подряду» сухово-кобылиноведов В. М. Селезневу и Е. О. Селезневой, выпустивших в последние годы несколько фундаментальных изданий, посвященных драматургу. Из открытых источников мы узнаем, что В. М. Селезнев окончил в 1955 году филологический факультет Саратовского государственного университета, где занимался в спецсеминаре у Ю. Г. Оксмана, что, видимо, не смог остаться в университете и продолжить учебу в аспирантуре, не защитился, но зато сменил много занятий: работал в областной газете «Заря молодежи», Приволжском книжном издательстве, Облкинопрокате, институте «Гипрониигаз». Верность Сухово-Кобылину подтвердил в 1980-х и с тех пор за двадцать с лишним лет выпустил сам или в соавторстве немало статей и рецензий в журналах «Вопросы литературы», «Звезда», «Русская литература», «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Литературное обозрение», «Искусство кино», «Знамя», «Литература в школе», «Волга», «Книжное обозрение», в «Литературной газете», «Литературной России». Виктор Селезнев — участник саратовского дела о самиздате (1971) и член всероссийского правозащитного общества «Мемориал»[15]. Видимо, сам В. М. Селезнев в своей солидной библиографии, историко-литературной и публицистической, выбирает репрезентативный короткий список. В нем на три сухово-кобылинские работы приходится одна «правозащитная»[16].
Все эти издания объединяет важное свойство: в них собраны и прокомментированы документы, ранее малодоступные, либо неизвестные архивные материалы, специально расшифрованные и заново выверенные. В этой связи архив Сухово-Кобылина (большой пласт текстов которого хранится в РГАЛИ) — особый случай: многое в нем с трудом поддается прочтению.
Поскольку «Сухово-Кобылин. Pro et Contra» в какой-то мере продолжает ряд уже существующих изданий, подготовленных одной и той же командой, любопытно посмотреть, что же представляет собой данный том в сегодняшнем «корпоративном» контексте, пусть узком — с точки зрения структуры и «предъявления нового знания», новых источников, интерпретаций — новых хотя бы по отношению к сложившимся за последние 10–20 лет благодаря усилиям Селезневых и других.
Обсуждаемая книга состоит из пяти неравномерных и неравноправных разделов.
В первом разделе — «От первого лица» — републикованы три автобиографических текста, а также собрана переписка с журналистами и театральными критиками В. С. Кривенко, Ю. Д. Беляевым, драматургом, писателем, в конце 1890-х начинающим репортером, но самое главное — ценнейшие письма Минину Н. В., одному из самых близких друзей Сухово-Кобылина, его «Эккерману» и постоянному собеседнику на протяжении 30 лет.
Письма Минину 1892–1901 годов публикуются впервые. И это безусловная находка, открытие, а кропотливая работа, проделанная составителями тома по выявлению документов в РГАЛИ и в Рукописном отделе ИРЛИ, позволила восстановить ряд уникальных подробностей, проясняющих сухово-кобылинскую концепцию политической истории России, становление и эволюцию его взглядов. Действительно, в этом разделе представлены письма ключевым корреспондентам. Остается жалеть только, что отсутствуют письма К. Аксакову[17]. Не упомянуты они и в комментариях к переписке К. Аксакова, университетского товарища А. В. Сухово-Кобылина, с двоюродной с сестрой М. Карташевской, которая появляется в следующем разделе. Ранее известные письма к родным спустя почти 80 лет также требуют новой сверки и комментария[18].
Во втором разделе — «Воспоминания о Сухово-Кобылине» — собрано тридцать мемуарных свидетельств. Этот блок, однако, во многом совпадает и по типу, и по номинациям представленных документов, и комментарийно с тем разделом, что был представлен в сборнике «Дело А. В. Сухово-Кобылина», составленном В. М. Селезневым и Е. О. Селезневой ранее в 2002 году. Републикация материалов занимает 118 страниц, примерно шестую часть тома «Pro et Contra», а в «Деле» — 119 страниц, пятая часть. Перепечатаны практически все известные ранее источники, а также упоминавшаяся выше переписка К. С. Аксакова и М. Г. Карташевской, одно из немногих свидетельств о раннем «досухово-кобылинском» периоде молодости. Вместе с записными книжками той поры, которые, судя по свидетельствам их тщательной работы с фондом в РГАЛИ, известны публикаторам, а также упоминаниями сестры Елизаветы Сухово-Кобылиной (Евгении Тур) в ее «Воспоминаниях»[19] и письмами тех лет Н. И. Надеждина, учителя и возлюбленного Елизаветы Васильевны, где есть отзывы о двадцатилетнем Александре, — это крайне скудные, но важные факты, составляющие сложный и противоречивый портрет талантливого, яркого, злого, избалованного развратника, с которым отец С. Т. Аксаков запрещал общаться сыну Константину[20].
Напрасно придирчивый читатель, знакомый с кругом изданий, посвященных Сухово-Кобылину, ожидал в этом разделе какой-то новой «оптики». Составители решили повторить, правда, не везде упоминая одних и те же людей, тексты, представленные хотя бы в том же сборнике «Дело…». Что ж, это их право.
Третий раздел — «Литературная и театральная критика, актеры и режиссеры о пьесах Сухово-Кобылина» — состоит из трех частей, соответствующих порядку пьес в трилогии. Первая — о «Свадьбе Кречинского» (1855–1933), вторая — о «Деле» (1861–1955), третья — о «Смерти Тарелкина» (1900–1936). Составителям удалось собрать и прокомментировать большой пласт прессы, газетно-журнальных рецензий и упоминаний, который не только дает новые ключи к текстам Сухово-Кобылина в разные эпохи, но и облегчает понимание рецепции, ее динамики, неожиданных поворотов в тот или иной период. Очевидно, наиболее крупные находки Селезневых приходятся на 1920–1930-е годы. В это время происходит реконструкция классики, заново переосмысливается литературный канон. Переписывание, присвоение, отталкивание и притяжение — вот те сбивчивые, почти истерические состояния русской советской культуры первых послереволюционных лет. Сухово-Кобылин пришелся ко двору, был заново воскрешен и возвращен публике. Сухово-кобылинский «бум» был устроен несколькими режиссерами и происходил на театральных площадках, существенно обновивших зрительскую культуру. Автором этого «взрыва» во многом следует считать В. Э. Мейерхольда, чьи постановки прорвали стену забвения. Но прорыв и всевластие над драматургом не принесли режиссеру удовлетворения и особого успеха. Сухово-Кобылин не «давался», ускользал, что понимали и сам Мейерхольд, и его единомышленники, и ярые оппоненты, критики, настроенные как дружески, так и враждебно.
Сухово-Кобылин — Мейерхольд, конечно, слишком капитальный и слишком сложный сюжет, чтобы представить его несколькими перепечатками[21]. Загадкой остается принцип отбора именно этих статей и рецензий, хотя в мейерхольдовском фонде РГАЛИ (998) и в фонде ГОСТИМа (963) собрана вся история сухово-кобылинских постановок, суфлерские и режиссерские экземпляры с пометами помощника Н. В. Цетнеровича, рецензии на спектакли В. Е. Ардова, В. С. Томашова, Я. Варшавского, точнее представляющие сложность мейерхольдовских режиссерских решений. Трудно понять, намеренно или случайно из поля зрения составителей выпадают какие-то принципиальные исследования, казалось бы, необходимые для пояснительного аппарата книги. Либо невниманием, либо незнанием можно объяснить, к примеру, отсутствие ссылок на автора, серьезно изучавшего данную тему[22]. Представляется естественным включение такого рода фактов не в качестве «ритуальных» жестов, а в помощь читателю, желающему разобраться в запутанной мифологии, которую сами газетные критики создавали и поощряли.
Трудно понять также, какими мотивами продиктованы «верхние» хронологические границы в подборе прессы и высказываний представителей театрального мира. В случае «Свадьбы Кречинского» и «Смерти Тарелкина» — только до 1930-х годов, «Дело» — до середины 1950-х. Разумеется, книга не безразмерна. Но в предисловии упоминается жизнь сухово-кобылинских комедий и фарсов в 1960-х и 1970-х. И совершенно справедливо отмечен В. Селезневым 2005 год, когда одновременно пять московских театров вернулись к трилогии. В этом ряду чрезвычайно важно сценическое прочтение драматургии Сухово-Кобылина режиссером А. Левинским, воспитывающим актеров в биомеханической системе, продолжающей традиции Мейерхольда. Спектакли 2005 года получили интересные отклики, а материалы постановщика могли бы стать новым веским аргументом существования сухово-кобылинской художественной и философской мысли в другом контексте. Однако об этом — ни слова.
Наиболее уязвимой представляется подборка двух последних разделов. В четвертом и пятом — «Общая оценка трилогии “Картины прошедшего”» и «Философия» — составители оказались в затруднительном положении, предложив читателю смесь отрывков из разных текстов и авторов, принадлежащих разным, порой несовместимым рядам: безымянные рецензенты 1860–1870-х годов рядом с А. Блоком, П. Гнедичем, снова Н. В. Мининым, режиссером Н. П. Акимовым, культурологом Вяч. Вс. Ивановым, писателем Д. Галковским. Пеструю компанию почти триумфально завершает выдержка из книги Я. Э. Эльсберга «Наследие Гоголя и Щедрина и советская сатира» (М.: Советский писатель, 1954): «…Авторы ряда опубликованных в 1952–1953 годах статей, характеризуя классические традиции, воспринимаемые советской сатирой, в один ряд с Гоголем и Щедриным ставят А. В. Сухово-Кобылина… Безысходный пессимизм, неверие в народ, неумение увидеть в настоящем элементы будущего. Поэтому у Сухово-Кобылина, особенно в “Смерти Тарелкина”, не возникает ощущения идейной победы над всем старым и реакционным, а чувствуется лишь ужас перед ним»[23]. Ожидалось, что составители предложат какое-либо обоснование своих вкусовых предпочтений, повлиявших на выбор, сделанный в пользу Я. Е. Эльсберга среди прочих его коллег-современников и включения именно данного автора и данного фрагмента как представителя литературоведческой мысли 1950-х[24]. Яков Эльсберг, как известно, — человек с весьма неоднозначной репутацией. В последнее время приведено немало доказательств его продолжительного сотрудничества с известными органами, а также фактов, подтверждающих практику доносительства, которой Яков Ефимович занимался на протяжении почти полувека[25]. Однако в комментарии — лишь одна строка: «Эльсберг Яков (Жак) Ефимович (1901–1976) — советский литературовед»[26].
Скорее всего, только изнуренностью В. и Е. Селезневых можно объяснить подобный лаконизм и информационную избирательность. Комментарии к четвертому и особенно пятому разделу носят все более общий, абстрактный и избирательный характер. К «эзотерике» Д. Галковского («Бесконечный тупик) и Вяч. Вс. Иванова («Диалог. Сложность сознания и связь с космосом») составителям нечего добавить, кроме дежурной справки: «Галковский Дмитрий Евгеньевич (р. 1960) — писатель, Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929) — специалист по истории культуры и семиотике»[27].
Прихотливость, диспропорция и «капризы» комментаторских интерпретаций (какие-то детали учитываются и разъясняются подробно, а иные — по причинам не всегда очевидным — пропущены, то ли по недосмотру, то ли случайно[28]) делают сопроводительные тексты отчасти странными. Сквозь добротное академическое исследование неожиданно проступают оценки, интонации и приемы постперестроечной публицистики. Чего стоят ядовитые, но, увы, шаблонные характеристики, выражающие вкусовые предпочтения и личную неприязнь составителей: Маркс — «профессиональный двурушник и будущий главарь I Интернационала», «брань Основоположника», «самодержавие народных комиссаров»; В. Д. Бонч-Бруевич — «ленинский приспешник», «приемы ленинского сподвижника»; едкая характеристика достается М. Горькому[29]. По заслугам получили и не попавшие в число тех, кому составители симпатизируют. Этот список достаточно объемный. Черная метка досталась Владиславу Отрошенко, автору «очень плохого» романа о Сухово-Кобылине, критику Алле Марченко, «по ошибке» поддержавшей Отрошенко в новомировской рецензии, Е. К. Соколинскому, петербургскому библиографу и исследователю творчества драматурга, «пасквилянту» С. Гедройцу, уже в наши дни «оболгавшему Сухово-Кобылина», но получившему достойный отпор критика Романа Арбитмана, начальству рукописного отдела Ленинской — ныне Российской государственной — библиотеки и персонально заведующему данным отделом Виктору Лосеву, не допускавшему составителей данного тома к семейному архиву Петрово-Соловово и «публикующему безграмотные статьи». Перечень виновных велик.
Обстоятельная вступительная статья во многом воспроизводит не раз описанную печальную цензурную историю сухово-кобылинских пьес и жестокую, но в результате проигранную борьбу с российской бюрократией и правосудием. Знаменательно, что «правозащитный» очерк о Сухово-Кобылине, выполненный в хороших традициях составления биографических портретов серии «Жизнь замечательных людей», «прошит» пассажами, почему-то напоминающими сочинения Аркадия Гайдара.
|
В. М. Селезнев. Драматург и философ будущего |
Аркадий Гайдар. Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове |
|
Автор …ведет читателя в царство бюрократии, где любой намек, случайная оговорка могут аукнуться бедой, катастрофой, смертью. Он, Автор, поверяет бытие философией, а философию — бытием. Комментирует, исследует, экспериментирует, вспоминает, намекает, любит, ненавидит, иронизирует, смеется, лукавит, презирает… верит и побеждает своих врагов. Автор, как паладин Чести, Истины, Правды, Совести, Мысли, зовет в бой против царства грабителей и марионеток, против всевластия кулака и живота. Его оружие — его вольное Слово. Его метод — великое учение Гегеля. Его враги — самодержавная бюрократия, удушающая мысль и жизнь. … Выходят новые книги… Начинают свою сценическую жизнь новые постановки пьес. |
– Но… видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят. — Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия; так же, как молнии, засверкали огненные взрывы; так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная армия. А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства. А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей реки. И поставили над могилой большой красный флаг.
Плывут пароходы — привет Мальчишу! Пролетают летчики — привет Мальчишу! Пробегают паровозы — привет Мальчишу! А пройдут пионеры — салют Мальчишу! |
Все эти ассоциации, произвольное совмещение текстов остаются на совести пишущего эти строки и при этом нисколько не умаляют достоинств колоссальной работы и серьезного пласта новых сведений, которые удалось составителям добыть. И может быть, поверх и помимо намерений авторов столь титанического труда, достойного самых высоких похвал, тексты самого Сухово-Кобылина и рассуждения о нем — это безусловный штрих к картине самосознания русской культуры, энциклопедию которой так хотелось бы предложить аудитории в недалеком будущем инициаторам Большого Издательского проекта РХГА. Книга о драматурге — безусловный шаг к такой энциклопедии, но одновременно и шаг к той страшноватой русской жути, где вроде обнаруживается ад и в то же время не совсем ад, где культура, история, дворянство и прочие благородные вещи — только лишь тонкая пленка, слабая перегородка, отделяющая страшное, мутное от нестрашного и обыкновенного. Сухово-Кобылин как бы испугался своих открытий и сбежал. Сбежал в философствование, в какую-то невероятную по своим свойствам речь, в бесконечные провальные попытки структурировать эту жуть. Для нас важен тяжелый и скучный итог — в полной мере филологический. В самом деле, несмотря на все философские штудии, мастерство, любопытную биографию, довольно неприятно постоянно иметь дело с чужим личным опытом, уникальным и вроде бы давно знакомым. Сухово-Кобылин — один из первых литераторов, маниакально сосредоточенных на самих себе. У него нет полноценных героев, сюжета, от всего огромного творческого «хозяйства» остались только въевшиеся в нашу речь обрывки фраз. Но этот внушительный материал, в котором, конечно, отсутствует какое-либо внятное противопоставление, какие-либо оппозиции, pro et contra, вся эта «глыба» — совсем о другом. Это речевая мука, нескончаемая беседа с той внутренней субстанцией, которая бередит напоминаниями о себе и вовлекает в мучительный разговор тех, кто оказался рядом, втягивает в эту адскую мешанину. Поэтому Сухово-Кобылин, занятый по сути только одним разбирательством, не знает никаких «за» и «против». Pro et Contra — это не о нем. И еще один скучный итог книги — ощущение сильной промашки и общей растерянности. Со дна подняты и соединены вместе пласты документов. Но бесформенный компендиум, отчасти обманывающий ожидания обещаниями формы и порядка, не дает ключа, не дает облегчения, поскольку вне контекстных интерпретаций, вне контекстов как таковых эта громада обречена остаться неупорядоченной псевдоструктурированной массой или свернуться в очередной жезеэловский пазл.
Куда все же ведет серия «Русский путь»? Вектор указать непросто. Но истоки просматриваются. Чем больше книжный объем серии, тем заметнее дрейф антологий, их срастание с соседями по жанру — хрестоматиями. Книгами, не включенными в контекст и свободными от каких-либо умственных обязательств, любой прагматики, кроме учебной. «Русский путь» — это ретро-проект. Таких сейчас немало. При всей академической серьезности он незаметно открывает что-то забытое и детское (недаром совсем неуместно и внезапно, в самую неподходящую минуту при внимательном чтении обсуждаемого последнего тома вдруг всплыл Аркадий Гайдар, как наваждение детского сна), возвращает несбывшуюся позднесоветскую мечту 1970-х. Открытый цековский клуб. Только в нем другая подписка, другое распределение, другой непокрываемый дефицит. «Русский путь» — это осколок вроде бы старого социалистического универсума, не предполагавшего какие-либо контексты, прагматику. Цветные тома серии — это метеориты, догнавшие нас и свалившиеся оттуда, из той галактики, как напоминание о советском космосе. Какими путями «проползают» в нулевые советские книжные «утопии», какие спрятанные механизмы их не только реставрируют, но и питают финансово, где гнездятся потенциальные доноры? Как меняется ценовая политика? В чем ее народность или антинародность? А главное, как мутирует документ, текст, академический комментарий, превращенный в этих постцековских книжных сериалах в партизанский способ свести счеты с противниками, конкурентами? На эти вопросы пока нет ответа, но они могут стать темой для самостоятельного исследования.
[1] Даниил Андреев: pro et contra. Составление, вступительная статья, комментарии Г. Г. Садикова-Лансере. СПб.: РХГА, 2010. (Русский путь).
[2] Книжная полка Ольги Балла // Новый мир. 2011. № 2.
[3] Амфитеатров А. В. Сухово-Кобылин // А. В. Сухово-Кобылин. Pro et Contra. М. 2010. С. 428.
[4] Сухово-Кобылин А. В. 40-летие Свадьбы Кречинского // Там же. С. 72–73.
[5] РГАЛИ. Ф. 438.
[6] Марк Твен. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Санкт-Петербург.: Азбука, 2000. С. 185.
[7] Дело Сухово-Кобылина. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 262.
[8] Здесь допустима аллюзия лишь на заглавие книги О. А. Проскурина. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
[9] Суворин А. С. Картины прошедшего. Писал с натуры А. В. Сухово-Кобылин // Вестник Европы. 1869. № 9. С. 423–429.
[10] Без подписи. Картины прошедшего. Писал с натуры А. В. Сухово-Кобылин // Отечественные записки. 1869. т. CLXXXIV. № 6. С. 222.
[11] Без подписи. А. В. Сухово-Кобылин. Некролог // Ежегодник императорских театров. Третья книга приложений. Сезон 1902–1903. Пб., б. г. С. 65–72.
[12] Сухонин С. Встречи //Всемирный вестник. 1903. № 6–7. С. 291–294; Ходнев К. Встреча с А. В. Сухово-Кобылиным // Русская старина. 1903. № 6. С. 625–628; Гуревич Л. А. В. Сухово-Кобылин (Литературный портрет) // Вестник и библиотека самообразования. 1903. № 20. С. 874–880.
[13] Ардов Б. В. Table-Talks на Ордынке //Легендарная Ордынка. Сборник воспоминаний. СПб.: ИНАПРЕСС. 1995. С. 201–360.
[14] Селезнев В. М. Проблематика трилогии А. В. Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» // Научный ежегодник за 1954 год. Саратов. «Коммунист». 1955. С. 201–204. (Саратовский университет).
[15] В книге Л. М. Алексеевой «История инакомыслия в России» (1992) имя В. М. Селезнева не упоминается.
[16] Сухово-Кобылин А. В. Картины прошедшего. Л.: Наука, 1989. (Литературные памятники). Подготовка совместно с Е. С. Калмановским; Дело Сухово-Кобылина. М.: Новое литературное обозрение, 2002. (Россия в мемуарах). Подготовка совместно с Е. О. Селезнёвой; Слово о жизни и деле Сухово-Кобылина. Рыбинск, 2003; Кто выбирает свободу. Саратов: Хроника инакомыслия. 1920–1980-е годы. Саратов, 2006; Борисоглебск, 2010.
[17] Гроссман Л. Преступление Сухово-Кобылина. Л.: «Прибой». С. 219–222. Кроме того, там же — Вел. кн. Константину Константиновичу. 28 марта 1902; В. Н. Панину. 1853.
[18] Письма к родным. Вступ. Статья и комм. Е. Н. Коншиной // Труды Библиотеки им. В. И. Ленина. 1934. Вып. 3. С. 185–274; Отрывки в кн. Рудницкий К. А. В. Сухово-Кобылин. Очерк жизни и творчества. М.: Искусство, 1957. С. 301, 304, 306, 307, 315, 320.
[19] Напрасно составители данной книги считают несуществующими воспоминания сестры о Сухово-Кобылине. В неопубликованных мемуарах Евгении Тур (РГАЛИ, ф. 346) прочитывается немало упоминаний о юном Александре, общем детстве и юности. Эти детали почти дословно повторяются в повести «Семейство Шалонских» (1879), в которой коллизия «сестра-брат», «брат-кумир» — одна из центральных.
[20] К биографии профессора Н. И. Надеждина // Русский архив. 1885. № 8.
[21] Мейерхольд В. Э. «Свадьба Кречинского». К сегодняшней премьере в Московско-Нарвском Доме культуры // В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М.: Искусство. 1968. Ч. 2; Ю. Юзовский. О театре и драме в двух томах. М.: Искусство. 1982.
[22] Ряпосов А. Ю. В. Э. Мейерхольд и театр А. В. Сухово-Кобылина: диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.01. Санкт-Петербург, 1998. 249 c.; Ряпосов А. Ю. Режиссерская методология Мейерхольда. 1. Режиссер и драматург: структура образа и драматургия спектакля. СПб., 2001.
[23] Эльсберг Я. Е. Наследие Гоголя и Щедрина и советская сатира // А. В. Сухово-Кобылин. Pro et Contra. C. 536.
[24] В те годы вышло немало работ, достойно соперничающих с Эльсбергом в идеологических интерпретациях и риторике: Богуславская З. Творчество А. В. Сухово-Кобылина и его фальсификаторы // Театр. 1950. № 1. С. 68–81; Гликман И. А. В. Сухово-Кобылин и его трилогия. М.: Гослитиздат, 1955. С. V–XXXVIII; Голяков И. Т. А. В. Сухово-Кобылин // Суд и законность в русской художественной литературе 19 века. М.: Моск. ун-т., 1956. С. 57–65.
[25] Чуковский К. И. Дневник. 1901–1969. Том 2. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 592; Кардин В. Преданные без лести. http://www.lechaim.ru/ARHIV/136/kardin.htm
[26] А. В. Сухово-Кобылин. Pro et Contra. С. 703.
[27] Там же. С. 709.
[28] Подобное умолчание, к примеру, произошло с достаточно важной «околосухово-кобылинской» фигурой, Сергеем Ивановичем Манухиным, журналистом, писателем, театральным критиком, жившим в Рязани. Действительно, Манухин подготовил «дайджест» рецензий в 1898 году. Правда, примечаний, как считают составители тома, там практически нет. Близость С. И. Манухина с Сухово-Кобылиным отдаленно сопоставима со значимостью для него Н. В. Минина, многолетнего собеседника и почитателя. Несколько приветственных телеграмм семейства Манухиных хранится в фонде Сухово-Кобылина в РГАЛИ.
[29] Там же. С. 579, 635, 661.
