Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
Русская революция 1917 г в условиях экономического чуда: по классическому сценарию?
В постсоветское время были пересмотрены многие концепции марксистской историографии. Но взгляды на русскую революцию 1917 года как необходимую, неизбежную и закономерную до сих очень прочны и в науке, и в массовом сознании. Они как будто обладают иммунитетом против ревизии. Иммунитет держится на распространенном мнении, что если империя не выдержала испытаний Первой мировой войной, значит, она находилась в состоянии глобального системного кризиса в предшествующий период (для одних это — пореформенное время, для других — весь долгий XIX век, для третьих — вся эпоха империи).
Мучительное развитие или экономическое чудо?
Мы с завистью говорим о немецком, японском, южнокорейском, китайском и прочих экономических чудесах. Вот могучие, лихие народы: богатыри — не мы. Как современная, так и царская Россия представляется многим отсталой автократией, бегущей на месте — вперед-назад, вперед-назад, то бишь реформы — контрреформы, или мобилизация — стагнация — кризис, или либерализация — авторитарный откат[1].
Между тем в России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. В 1861–1913 годах темпы экономического развития были сопоставимы с европейскими, хотя и отставали от американских. Национальный доход за 52 года увеличился в 3,8 раза, а на душу населения — в 1,6 раза. И это несмотря на огромный естественный прирост населения, о котором в настоящее время даже мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличивалось за эти годы почти на 2 млн ежегодно. Душевой прирост объема производства составлял 85 % от среднеевропейского. С 1880-х годов темпы экономического роста стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных»: валовой национальный доход увеличивался на 3,3 % ежегодно — это даже на 0,1 больше, чем в СССР в 1929–1941 годах, и только на 0,2 % меньше, чем в США, — стране с самыми высокими темпами развития в мире в то время[2]. Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. С 1881–1885 по 1913 год доля России в мировом промышленном производстве возросла с 3,4 до 5,3 %. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами.
Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило существенное повышение благосостояния, другими словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни крестьянства и, значит, происходила не за его счет, как общепринято думать. На чем основывается такое заключение?
О росте благосостояния свидетельствуют увеличение с 0.171 до 0.308 — в 1,8 раза индекса развития человеческого потенциала, который учитывает (1) продолжительность жизни; (2) уровень образования (грамотность и процент учащихся среди детей школьного возраста); (3) валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП).
Таблица 1. Индекс развития человеческого потенциала в России в 1851–1914 годах (без Финляндии)
|
Годы |
Населе- ние, млн |
ВВП на душу населения* |
Образование** |
Средняя продолжитель- ность жизни |
Индекс развития челове- ческого потен- циала |
||||
|
Долл. |
Индекс |
Грамот- ность, % |
Учащие- ся, % |
Индекс |
Лет |
Индекс |
|||
|
1851–1860 |
73,5 |
701,0 |
0,381 |
14 |
1,4 |
0,098 |
27,1 |
0,035 |
0,171 |
|
1861–1870 |
78,4 |
675,9 |
0,374 |
17 |
1,9 |
0,120 |
27,9 |
0,048 |
0,181 |
|
1871–1880 |
91,7 |
666,4 |
0,372 |
19 |
2,3 |
0,134 |
28,8 |
0,063 |
0,190 |
|
1881–1890 |
110,6 |
679,9 |
0,375 |
22 |
2,5 |
0,155 |
29,7 |
0,078 |
0,203 |
|
1891–1900 |
125,8 |
790,7 |
0,402 |
28 |
3,5 |
0,198 |
31,2 |
0,103 |
0,234 |
|
1901–1910 |
147,6 |
928,1 |
0,430 |
33 |
5,5 |
0,250 |
32,9 |
0,132 |
0,271 |
|
1913 |
171,0 |
1036,0 |
0,449 |
40 |
7,9 |
0,293 |
36,0 |
0,183 |
0,308 |
* В долларах США 1989 года.
** Без Польши и Финляндии.
Подсчитано по: ВВП: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.): Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 22, 232–237; Образование: Миронов Б. Н. (1) История в цифрах: Математика в исторических исследованиях. Л., 1991. С. 82, 146; (2) Экономический рост и образование в России и СССР в XIX–XX веках // Отечественная история. 1994. № 4-5. С. 111–125; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (вторая половина XIX в.) / А. И. Пискунов (ред.). М., 1991. С. 518, 525, 527, 529, 531; Продолжительность жизни: Воспроизводство населения СССР / А. Г. Вишневский, А. Г. Волков (ред.). М., 1983. С. 61; Демографическая модернизация России: 1900–2000 / А. Г. Вишневский (ред.). М., 2006. С. 292.
О повышении уровня жизни населения, в первую очередь крестьянства, свидетельствуют также:
- Рост с 1863 по 1906–1910 годы расходов на алкоголь в 2,6 раза на душу населения[3].
- Повышение с 1885 по 1913 год производства потребительских товаров и оборота внутренней торговли на душу населения в постоянных ценах — в 1,7 раза[4] (за более раннее время сведений не имеется).
- Увеличение между 1886–1890 и 1911–1913 годами количества зерна, оставляемого крестьянами для собственного потребления, на 34 %[5].
- Увеличение с 1850-х по 1911–1913 годы реальной поденной платы сельскохозяйственного рабочего 3,8 раза, промышленных рабочих — в 1,4 раза[6].
- Уменьшение числа рабочих дней в году у крестьян со 135 в 1850-х годах до 107 в 1902 году[7], у пролетариев — числа рабочих часов с 2952 в 1850-х до 2570 в 1913 году[8].
- Массовая скупка земли крестьянами. За 1862–1910 годы крестьяне купили 24,5 млн десятин земли, заплатив за нее огромные деньги — 971 млн руб.[9] — это в 28 раз больше, чем все недоимки, накопившиеся за ними к 1910 году (на 35 млн руб.)[10]. Купчая земля относительно надельной составляла 6,8 % в 1877 году, 14,5 % — в 1887 и 21,6 % — в 1910 году, а относительно всей частновладельческой земли — соответственно 6,2, 13,1 и 25 %. Причем почти половина (46 %) земли была куплена крестьянскими обществами и товариществами[11]. Нищие землю, как известно, не покупают.
Вывод о повышении уровня жизни населения основывается также на антропометрических сведениях (росте и весе). Существенное и систематическое увеличение конечной (т. е. при достижении полной физической зрелости) длины тела мужчин за 1791–1915 годы на 7,7 см (с 161,3 до 169,0) и веса за 1811–1915 годы на 7,4 кг (с 59,1 до 66,5) дает уверенность в том, что благосостояние крестьянства действительно повысилось. Индекс массы тела, показывающий уровень питания, на протяжении 1811–1915 годов всегда соответствовал норме, а к концу изучаемого периода даже немного увеличился — с 21,8 до 23,3[12]. Все это могло произойти только при условии повышения благосостояния.
Как известно, улучшение условий жизни рассматривается в теории модернизации в качестве главного критерия ее успешности[13]. Поскольку имперская Россия модернизировалась и благосостояние населения росло, модернизацию следует признать успешной, несмотря на все издержки.
Апории русских революций начала ХХ века
В моих выводах можно усмотреть непреодолимые противоречия, своего рода апории.
Первая апория — несовместимость самодержавия и прогресса — подробно рассмотрена в книге «Социальная история». Оказалось, что прогресс совместим с политическим авторитаризмом. В течение всего периода империи в России происходила модернизация с национальными особенностями, но по европейскому эталону[14]. И хотя процесс не завершился — к 1917 году российское общество не соответствовало в полной мере ни одному из критериев современного общества, — успехи, достигнутые в условиях самодержавного режима, очевидны и неоспоримы. История европейских стран в новое и новейшее время дает аналогичные примеры успешных экономических преобразований именно при авторитарных режимах. Например, во Франции, Германии и Австро-Венгрии удачные преобразования были проведены королевской властью, а периоды демократии оказывались связанными с катастрофическими инфляциями и началом деструктивных процессов в экономике (эпоха Великой французской революции; Германия после Первой мировой войны; Австрия, Венгрия и Польша после распада монархии Габсбургов). Похожим образом развивались события в Испании, Португалии, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии[15]. Российские императоры поддерживали реформы, кроме тех, которые вели к ограничению их власти, не столько из-за любви к власти, сколько потому, что, во-первых, хотели сохранить свободу рук для оперативного принятия решений при проведении реформ; во-вторых, в российском обществе было очень мало людей, способных к правильной законодательной работе. В XVIII — начале ХХ века подобная политика имела основания.

Вторая апория — невероятность того, чтобы полтора столетия в общественной мысли и науке удерживалась неадекватная фактам концепция кризиса — проанализирована в новой книге. Чисто научная причина этой парадоксальной ситуации состоит в том, что концепция превратилась в научную парадигму, т. е. в своего рода теорию и способ поведения в науке, в образец решения исследовательских задач в соответствии с определенными правилами, в готовый и почти обязательный алгоритм исследования. Императивность парадигмы обусловливается тем, что она существует в научном сообществе и поддерживается им. Если исследователь идентифицирует себя с сообществом, он должен придерживаться господствующей парадигмы, иначе он будет в нем белой вороной, более того — рискует вообще быть исторгнутым из него[16]. В рамках парадигмы кризиса анализировалось развитие российского общества в XVIII — начале ХХ века и происходило конструирование социальной реальности, ибо для преобладающего большинства историков, тем более для тех, кто специально не занимался социально-экономическим и политическим развитием России в конце XIX— начале ХХ века, парадигма являлась фоновым знанием, молчаливо принимаемым на веру как аксиома. Отсюда у парадигмы огромная сила инерции. Социологи и социальные психологи проделали немало вошедших в учебники экспериментов, доказывающих, что мощное давление группы на индивида делает его конформистом, вынуждая полностью изменить свою точку зрения (несмотря на ее правильность), чтобы отвечать требованиям большинства[17]. Именно поэтому в советское время почти поголовно разделялись концепции, суть которых была в том, что Советский Союз — самый просвещенный, гуманный, свободный, передовой, читающий и богатый социум в мире, что марксистское учение не стареет, оставаясь вечно молодым, и т. п.
Парадигма кризиса выполняла важные социальные функции. В позднеимперский период она служила целям дискредитации самодержавия, мобилизации населения на борьбу за реформы и свержение монархии, целям оправдания существующего освободительного движения, политического террора и революции, а также способствовала развитию гражданского общества. В советское время парадигма оправдывала Октябрьский переворот и все, что за ним последовало — Гражданскую войну, террор против «врагов народа», установление диктатуры, и таким образом как бы подтверждала истинность марксизма.
Третья апория — несовместимость значительного прогресса во всех сферах жизни, сопровождаемого к тому же повышением благосостояния, с ростом протестных движений в пореформенное время; иными словами — невозможность революции в условиях успехов и прогресса. Как хорошо известно, вторая половина XIX — начало ХХ века отмечены сильным ростом общественного движения, нередко приобретавшего протестную и временами агрессивную и революционную форму. Протестовали все — крестьяне и рабочие, духовенство и дворянство, но в наибольшей степени интеллигенция. В историографии это интерпретируется как показатель тяжелого, невыносимого положения доведенных до отчаяния трудящихся, в поддержку которых выступала интеллигенция.
Как неоспоримые успехи страны совместить с ростом в эти годы недовольства и оппозиции режиму, с развитием всякого рода протестных движений, которые в конечном итоге привели к революции 1917 года?
Издержки, или Побочные продукты процесса модернизации
В модернизации, даже успешной, заключено множество подводных камней, проблем и опасностей для социума. Она требует больших издержек и даже жертв, что ведет к лишениям и испытаниям для отдельных сегментов населения и не приносит равномерного благополучия сразу и всем. «Осовременивание» различных сфер общественного организма осуществляется асинхронно, порой одних — за счет других, что приводит к противоречиям между ними. В ходе модернизации возникает дисгармония между культурными, политическими и экономическими ценностями и приоритетами, разделяемыми разными социальными группами. В полиэтничных странах модернизация способствует обострению национального вопроса. Все это имеет одно фатальное следствие — увеличение социальной напряженности и конфликтности в обществе. Причем, чем быстрее и чем успешнее идет модернизация, тем, как правило, выше конфликтность. Например, существует прямая связь между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью[18].
Россия не стала исключением. Российская модернизация проходила под флагом европеизации, а точнее — вестернизации, и затронула верхние страты общества в несравненно большей степени, чем нижние, западные регионы (и соответственно этносы, в них проживающие) — сильнее восточных, город — больше деревни, столицы — интенсивнее остальных городов. Все это приводило к серьезным противоречиям и конфликтам между городом и деревней, разными отраслями производства (аграриями и промышленниками), социальными слоями, территориальными, профессиональными, этническими сообществами. Важным негативным последствием модернизации стал социально-культурный раскол общества на образованное меньшинство, принявшее вестернизацию, и народ, в массе оставшийся верным традиционным ценностям. В свою очередь тонкое европеизированное меньшинство не было единым с точки зрения системы ценностей, политических ориентаций и социальных идеалов. В результате конфликтность и социальная фрагментарность общества со временем все более усиливались. Наконец, наблюдались побочные разрушительные последствия процесса модернизации в форме роста социальной и межэтнической напряженности, конфликтности, насилия, преступности и т. д. Именно высокие темпы и успехи модернизации создавали новые противоречия, порождали новые проблемы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагоприятных обстоятельствах перерастали в большие, а при благоприятных могли бы благополучно разрешиться[19].
Революционная ситуация складывается постепенно. Как это ни покажется парадоксальным российскому читателю, ей, как правило, предшествуют длительное и бурное (по меркам своего времени) экономическое развитие и значительные структурные сдвиги в экономике и обществе. «Нет ничего более ошибочного, — заметил автор классического труда по истории революций К. Бринтон, — чем представлять себе старый режим угасающей тиранией, которая, катясь к своему финалу, доводит до предела деспотическое безразличие к протесту доведенных до крайности подданных»[20]. «Революции не характерны для стабильного общества, в котором отсутствуют динамичные изменения. Они неразрывно связаны с феноменом экономического роста. Причем предпосылки революций могут сформироваться не в любой момент, а лишь на особых переломных этапах, которые названы нами “кризисы экономического роста”»[21]. Быстрый экономический рост является важнейшей предпосылкой революции. Подобная зависимость «характерна практически для всех стран, переживших полномасштабные революции» в период ранней модернизации[22]. Нидерландской революции XVI века предшествовал быстрый экономический рост, затронувший как промышленность, так и сельское хозяйство. В Англии с середины XVI века и до начала революции и гражданской войны наблюдался быстрый промышленный рост. Во Франции активное преобразование сельского хозяйства начинается со второй половины XVIII века, а период с 1760 по 1790 год характеризуется успешным промышленным развитием и рассматривается как первая фаза промышленной революции. Германия в период, предшествовавший революции 1848 года, переживала промышленный переворот и экономический рост. То же наблюдалось за пределами Европы (Мексика, Иран и др.). Предреволюционные режимы и здесь проводили сознательную политику активной индустриализации и ломки традиционных структур, опираясь в первую очередь на широкое привлечение иностранного капитала[23]. Действительно, исследователи неоднократно подчеркивали связь успешного экономического развития с вызреванием предпосылок революции[24]. В одной из своих ранних работ, ставшей классикой по проблемам модернизации, С. Хантингтон установил наличие «прямой связи между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью»[25]. Известный американский экономист и социолог М. Олсон считал быстрый экономический рост «важнейшим дестабилизирующим фактором», более того — «основной силой, ведущей к революции и социальной нестабильности»[26].

Теория социального конфликта и протестные движения
Российское общество в 1861–1914 годах развивалось по сценарию, как будто специально написанному для него теорией социального конфликта, — конфликт стал неотъемлемой частью общественной жизни, а вражда различных социальных групп, борьба за групповые интересы, насилие ради их достижения — нормой[27]. В этой борьбе целью являлась нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника. В конце XIX века, по мнению видного октябриста С. И. Шидловского, «между правительством и обществом произошел конфликт, ставящий обе стороны в положение воюющих, <…> вся жизнь страны приняла характер упорной борьбы между двумя сторонами»[28]. Орган российских либералов, журнал «Освобождение», прямо заявил в 1903 году: «Самодержавие есть гражданская война со всеми ее бедствиями». А на войне как на войне — все средства для победы хороши[29]. И наивным было бы ожидать, что элита либерально-демократической общественности ради достижения своих бесспорно благородных целей — ради установления демократического строя, гражданского общества и правового государства — не возьмет на вооружение все доступные средства, включая манипуляцию массовым сознанием, дезинформацию, прессинг колеблющихся, PR-кампании, используемые ее идейными противниками. Иное поведение соперников свидетельствовало бы об их непрофессионализме и незрелости самого политического процесса. Даже террор против самодержавия поддерживался либералами: «Мы не принадлежим к числу людей, из лицемерия или недомыслия клеймящих событие 1-го марта (убийство Александра II. — Б. М.) и позорящих его виновников. Мы не боимся открыто сказать то, что втайне известно всей искренней и мыслящей России, а именно, что деятели 1-го марта принадлежат к лучшим русским людям»[30].
Конфликт играл мобилизующую роль. Так как конфликт между группами способствует укреплению внутригрупповой солидарности и, следовательно, сохранению группы, то лидеры группы сознательно прибегали к поискам внутреннего и внешнего врагов и разжигали мнимый конфликт. Для правящего класса таким врагом являлась интеллигенция, для интеллигенции — монархия.
Девиантное поведение, благосостояние населения и революции
Рост протеста при улучшении жизни, на мой взгляд, хорошо объясняют теории девиации, или отклонения, потому что все протестные движения можно отнести к девиантному поведению — протестующие не согласны с официально утверждаемыми целями жизни, со средствами их достижения или в целом с существующими порядками. Теории аномии, социальной дезорганизации и социального напряжения наилучшим образом объясняют всплеск протестного/отклоняющегося поведения в пореформенное время.
Великие реформы 1860-х годов, коренным образом изменившие условия существования и правила поведения, во-первых, породили дезориентацию, так как социальные нормы стали противоречивыми, утратили прежнюю ясность (теория аномии). Во-вторых, прежние устойчивые социальные связи становились противоречивыми и разрушались, вследствие чего социальный контроль над человеком со стороны социальных организаций, таких как сельская община, мещанское, купеческое и дворянское общества, чрезвычайно ослабел, и в обществе проявились черты дезорганизации (теория дезорганизации). В-третьих, возникло невиданное прежде по масштабам противоречие, или напряжение, между потребностями людей и реальными возможностями их удовлетворения (теория напряжения)[31]. Это напряжение со временем увеличивалось по мере роста индивидуализма, личной свободы, гражданских прав, уровня культуры и кругозора. Именно дезориентация, или разрегулированность, дезорганизация и рост напряженности в обществе способствовали росту протестного/отклоняющегося поведения.
Уровень девиации в обществе до некоторой степени отражает преступность, поскольку включает основные формы отклоняющегося поведения. Рассмотрим российскую преступность за последние два столетия под углом зрения девиации (см. рис. 1).

Рис. 1. Число преступлений и осужденных в России, 1803–2010 гг.
(на 100 тыс. населения)
* 1803–1913 гг. — Европейская Россия; 1961–2010 гг. — Российская Федерация; осужденные в 1922–1959 гг. — СССР, в 1930–1934 гг. — Российская Федерация.
Источники: Гилинский Я. И. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». 2-е изд. СПб., 2007. С. 218, 223; Миронов Б. Н. Социальная история. Т. 2. С. 85; Иншаков С. М. Латентная преступность в Российской Федерации: перспективы исследования [Просмотр 06.01.2011: <http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/inshakov(10-04-10).htm>].
И до 1917 года, и в советское время между уровнями преступности и благосостояния отсутствовала логическая по здравому смыслу связь — когда уровень жизни повышался, преступность не снижалась, как можно было надеяться, а росла. Преступность имела тенденцию уменьшаться в периоды усиления социального контроля со стороны всех общественных и государственных структур и ограничения личных свобод. Если брать большие периоды времени, в России XIX–XX веков, как и всюду в мире, наблюдался устойчивый и, как правило, необратимый рост преступности: достигнув определенного рубежа, она стабилизировалась, но не снижалась. Были два исключения — царствование Николая I и сталинская эпоха, в обоих случаях преступность возвратилась к уровню конца XVIII века — времени расцвета крепостничества. Повышение преступности происходило скачками: в годы либеральных реформ она повышалась, а в консервативные годы стабилизировалась или росла медленно. Самое значительное увеличение преступности произошло после Великих реформ 1860-х годов — в 2,7 раза с 1851–1860 по 1883–1889 годы; после революции 1917 года и Гражданской войны — в 1,4 раза с 1911–1913 по 1931–1935 годы и после реформ конца 1980-х — начала 1990-х годов — в 2,6 раза с 1981–1985 по 2006–2010 годы.
В современной социологии является общим местом утверждение, что успешное развитие цивилизации невозможно без свободы, неизбежно сопряженной с отклоняющимся поведением, в том числе и преступного характера. В этом смысле само существование девиантности свидетельствует о наличии известного пространства свободы в обществе. «Если преступность падает заметно ниже среднего уровня, нам не с чем поздравить себя, — говорит Э. Дюркгейм, — ибо мы можем быть уверены в том, что такой кажущийся прогресс связан с определенной социальной дезорганизацией»[32]. Действительно, самый низкий уровень преступности в России за последние двести лет наблюдался в последние годы сталинского режима — может быть, в самый мрачный период отечественной истории, и поздравлять россиян с этим было бы неуместным. Чтобы общество развивалось, чтобы существовала возможность для самовыражения и самореализации, в нем в равной степени должна существовать возможность как для конструктивного, так и для деструктивного деяния относительно традиции. Не случайно, наверное, рост преступности (деструктивного поведения) в пореформенной России сопровождался экономическим подъемом, ростом изобретательства и творческой активности (конструктивного поведения). В 1861–1900 годах сравнительно с 1825–1855 годами преступность (если о ней судить по числу осужденных — наиболее точному показателю) возросла в 2,7 раза, но и число запатентованных изобретений — в 13,2 раза (с 17 до 224 в год)[33].
Таким образом, рост протестных движений в пореформенное время отражал не понижение уровня жизни, не кризис социума или государства — в смысле его неспособности управлять страной, а явился плодом прогрессивных социальных изменений в обществе, следствием предоставленной экономической и гражданской свободы огромной массе прежде бесправных людей, результатом развития рыночной экономики и невероятного прежде роста потребностей и ожиданий.
Развитие протестных отношений хорошо объясняет также теория относительной депривации (относительных лишений), делающая акцент на психологической неудовлетворенности тем, что есть, и тем, чего хочется и что должно быть в соответствии с представлениями известных групп и индивидов[34]. Еще французский политолог XIX века А. де Токвиль полагал, что революции происходят тогда, когда наступает улучшение материального положения населения, уменьшаются репрессии, смягчаются ограничения, улучшается политическая ситуация[35]. Именно относительная депривация наблюдалось в пореформенной России. Рост потребностей постоянно обгонял достигнутый уровень жизни. Все слои населения, и интеллигенция в наибольшей степени, постоянно хотели больше того, что имели, и больше того, что реально возможно было иметь при тогдашних экономических и финансовых ресурсах, низкой культуре населения, невысокой производительности труда. Рост желаемых потребностей опережал увеличение предоставляемых возможностей — такая диспропорция, все увеличиваясь, оставляла все меньше возможностей для мирного урегулирования.
С 1870-х по 1911-1913 годы номинальный средний годовой заработок российских фабрично-заводских рабочих увеличился примерно на 33 % (со 190 до 254 руб.), сельскохозяйственных рабочих — на 75 % (с 57 до 100 руб.), учителей земских школ — на 188 % (со 135 до 390 руб., с квартирой и отоплением от школы). Однако и в 1870-х, и в начале 1910-х годов все жаловались на плохое материальное положение, особенно учителя, считавшие свой заработок крайне недостаточным для интеллигентного человека, хотя в 1913 году он был в 1,5 раза выше, чем у промышленных рабочих, а в 1870-х годах — в 1,4 раза ниже. Как ни парадоксально, в еще большей степени сетовали на материальное положение учителя гимназий, чье годовое жалованье в 1910 году равнялось 2100 руб., т. е. было в 5,4 раза выше, чем у земских учителей[36]. В период Первой мировой войны депривация достигла критического уровня, так как быстрорастущие ожидания натолкнулись на внезапное ухудшение условий жизни, а неудачи на фронте и большие военные потери отняли оптимизм и веру в конечную победу. Двойная, или прогрессирующая, депривация — относительно претензий и относительно прежних реальных достижений — оказалась особенно болезненной. Люди приобретали революционный настрой из-за опасения потерять то, чего им с таким трудом удалось достигнуть. Американский социолог Дж. Дэвис утверждает, что подобная прогрессирующая депривация была причиной всех великих революций в истории (так называемая теория J-кривой)[37].
Развитие пореформенной России позволяет сделать четыре важных вывода:
- Дискурс кризиса с его акцентом на негативных результатах развития, порожденных якобы неправильной политикой верховной власти, не соответствует исторической реальности.
- Самодержавие (монархия) или авторитарная власть совместимы с прогрессом на определенном этапе развития страны.
- Успехи и прогресс не исключают революции.
- Русские революции не имели объективных предпосылок в марксистско-ленинском смысле; их причины надо искать не в провале, а в успехах модернизации, в трудностях перехода от традиции к модерну.
Предпосылки и непосредственные причины революции
Изучение русской, как и любой другой революции происходит на трех уровнях. Макроуровень — анализ условий или предпосылок революции, их иногда называют также глубинными причинами. Мезоуровень — анализ факторов и причин, непосредственно порождающих революцию. Наконец, микроуровень — конкретно-исторический анализ всей массы фактов и обстоятельств, касающихся революции. Предпосылки создают возможность для свершения революции, готовят революционную ситуацию, а непосредственные причины превращают возможность в реальность.
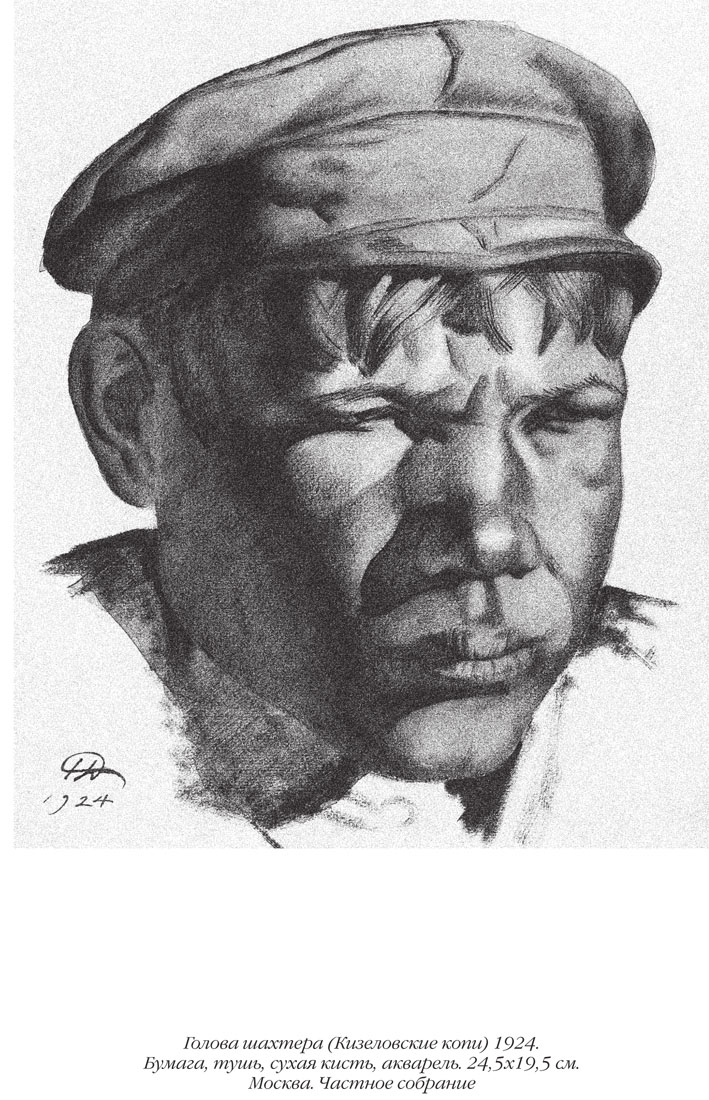
Известный американский исторический социолог Ч. Тилли только в Европе за 500 лет, с 1492 по 1991 год, насчитал 707 революционных ситуаций, при этом настоящие социально-политические революции произошли всего несколько раз, хотя имелось немало примеров, когда правительство было свергнуто или временно лишено власти[38]. Требуются дополнительные факторы, которые превращают возможность революции в реальность. Такими факторами могут стать крупное военное поражение, неудачная кровопролитная война, суровый экономический кризис либо их сочетание. В большинстве случаев революции происходят, когда длительный период поступательного экономического и социального развития сменяется коротким периодом резкого спада. На позитивном этапе решающее воздействие на умы людей данного общества неизбежно оказывает ожидание возможности и впредь удовлетворять растущие потребности. На коротком негативном этапе, когда реальность расходится с ожиданиями, на смену приходит чувство тревоги и разочарования[39]. Русская революция 1917 года — как раз такой случай.
Что касается непосредственных причин русской революции 1917 года, то недовольство «снизу» и несостоятельность «верхов» накануне февраля 1917 года сильно преувеличены. Во время любой войны происходит снижение уровня жизни. Однако во время Первой мировой войны понижение благосостояния в России было очень умеренным — вплоть до февральских событий 1917 года по объективным показателям ситуация в России была предпочтительнее, чем в других воюющих странах, особенно в Германии и Франции[40]. Вследствие этого и «объективных предпосылок» для революционного движения, разложения армии и развала в России было меньше. Не случайно В. И. Ленин, выступая 9 января 1917 года в Цюрихе на собрании молодых швейцарских социал-демократов, сказал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»[41]. Значит, за 8 недель до падения монархии 46-летний вождь пролетариата не видел революционной ситуации в России и не ожидал революции — по крайней мере в ближайшие десять лет. Известный монархист И. Л. Солоневич, как политический репортер крупнейшей газеты России — суворинского «Нового времени», был профессиональным свидетелем событий всего 1916 и 1917 года. Он также утверждал: «И для нас, репортеров, так сказать, профессиональных всезнаек, революция была как гром среди совершенно ясного неба. Для левых она была манной, но тоже с совершенно ясного неба»[42].
Отсюда следует, что при политической стабильности продержаться до окончания войны Россия смогла бы. Не случайно на 1917 год русское командование планировало решительные наступательные операции. Однако массовые выступления февраля 1917 года, охватившие преимущественно столицы и немногочисленные промышленные центры, разрушили эти планы. С большой вероятностью можно предположить, что беспорядки были спровоцированы оппозицией, которая воспользовалась моментом, чтобы вывести народ на улицы и свергнуть монархию.
Лидером, вдохновителем и организатором революционных действий выступила либерально-радикальная общественность, а народ был вовлечен в них умелой агитацией и пропагандой по двум причинам: без народной поддержки общественность не имела сил низвергнуть монархию и удержаться у власти, участие народа обеспечивало легитимность государственного переворота. При этом народ не являлся простой марионеткой в руках циничных политиков. Нельзя было вывести на улицы сотни тысяч людей против их воли, их нужно было убедить в необходимости это сделать. У крестьян и рабочих имелись свои групповые интересы, которые они успешно решали с помощью и либералов, и революционеров. После свержения монархии народ буквально принуждал Временное правительство исполнять его волю. А когда оно попыталось уклониться от народного курса, то в свою очередь было свергнуто. Как справедливо заметил П. Н. Милюков, «Должно быть исправлено ходячее представление о пассивной роли инертной массы. Масса русского населения, казалось, действительно только терпела. <…> Но обозревая теперь весь процесс в его разных фазисах, мы начинаем приходить к выводу, что терпение масс все же не было вполне пассивным. Массы принимали от революции то, что соответствовало их желаниям, но тотчас же противопоставляли железную стену пассивного сопротивления, как только начинали подозревать, что события клонятся не в сторону их интересов»[43]. Организация и руководство революционными выступлениями со стороны либеральной и радикальной оппозиции не исключает также спонтанных проявлений народной инициативы — того, что обычно называется стихийностью. Однако без руководства народные движения превращаются в бунты — как правило, усмиряемые властью.
Итоги
Революции начала ХХ века произошли не потому, что Россия после Великих реформ 1860-х годов вступила в состояние глобального перманентного кризиса, а потому, что общество не справилось с процессом модернизации, или перехода от традиционного к современному обществу. Как и в других странах второго эшелона модернизации, ее ускоренное, а в некоторых случаях и преждевременное проведение потребовало больших издержек и даже жертв — например, со стороны помещиков, у которых государство принудительно экспроприировало землю, хотя и за компенсацию. Это привело к лишениям и испытаниям для отдельных групп населения и не принесло равномерного благополучия сразу и всем. Большими оказались и побочные негативные последствия модернизации — увеличение социальной и межэтнической напряженности, конфликтности, насилия, девиантности во всех ее проявлениях — от самоубийства до социального и политического протеста. Необыкновенный рост всякого рода протестных движений явился, с одной стороны, порождением дезориентации, дезорганизации и повышенной напряженности в обществе, с другой — результатом получения свободы, ослабления социального контроля и увеличения социальной мобильности, с третьей — следствием роста потребностей, превышающих возможности экономики и общества их удовлетворить. Конфликт традиции и современности можно назвать системным кризисом. Однако такой кризис не имеет ничего общего с тем пониманием системного кризиса, которое доминировало в советской историографии и до сих пор широко бытует в современной литературе, — как всеобщего и перманентного кризиса, превратившего российский социум в несостоятельную и нежизнеспособную систему, лишенную возможности развиваться и приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и обеспечивать благосостояние населения. «Упадок (старого. — Б. М.), вызванный ростом нового и молодого, — это признак здоровья», — справедливо полагал Хосе Ортега-и-Гассет[44]. Кризис российского социума был кризисом роста и развития. Он не вел фатально к революции, а лишь создавал для нее предпосылки, только возможность, ставшую реальностью в силу особых обстоятельств — военных поражений, трудностей военного времени и непримиримой и ожесточенной борьбы за власть между оппозиционной общественностью и монархией.
[1] Розов Н. С. Цикличность российской политической истории как болезнь: возможно ли выздоровление? // Полис. 2006. № 2. С.74–89; Янов А. Л. Тень Грозного царя: Загадки русской истории. М., 1997; Пантин В. И., Лапкин В. В. Волны политической модернизации в истории России: К обсуждению гипотезы // Проблемы и суждения. 1998. № 2.
[2] Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало ХХ в.): Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 22–23, 61–62.
[3] Миронов Б. Н. Благосостояние и революции в имперской России: XVIII — начало ХХ века. М., 2010. С. 556.
[4] Струмилин С. Г. Статистика и экономика. М., 1979. С. 444; Статистический ежегодник России 1916 г. М., 1918. С. 85; Маслов П. П. Критический анализ буржуазных статистических публикаций. М., 1955. С. 459.
[5] Миронов Б. Н. Благосостояние. С. 664.
[6] Там же. С. 526.
[7] Там же. С. 557.
[8] Миронов Б. Н. «Послал Бог работу, да отнял черт охоту»: трудовая этика российских рабочих в пореформенное время // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999. С. 277.
[9] Подсчитано по следующей методике – определена площадь всей купленной крестьянами земли и средняя цена десятины (около 40 руб.) за 1863–1910 гг. по данным: Святловский В. В. Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908 гг.). СПб., 1911. С. 81, 133–134, 137.
[10] Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1911 года. СПб., 1911. С. 256–257.
[11] Святловский В. В. Мобилизация земельной собственности. С. 133–137; Статистические сведения по земельному вопросу в Европейской России. СПб., 1895. С. 35; Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50-ти губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. 11–17.
[12] Миронов Б. Н. Благосостояние. С. 462–464, 622.
[13] Tiryakian E. The Changing Centers of Modernity // Comparative Social Dynamics: Essays in Honor of Shmuel N. Eisenstadt / E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor (eds.). Boulder (CO): Westview, 1985. P. 131–147.
[14] Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. 3-е изд. СПб., 2003. Т. 2. С. 291–304.
[15] Травин Д., Маргария О. Европейская модернизация: В 2 кн. СПб., 2004. Кн. 1. С. 91.
[16] Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 11, 28–29, 281.
[17] Волков Ю. Г. и др. Социология. 3-е изд. М., 2006. С. 173–175; Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 160–162.
[18] Хантингтон С. П. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004; Хорос В. Г. Русская история в сравнительном освещении. М., 1996. С. 14–18; Eisenstadt S. N. Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations. New York: Free Press, 1978; Patterns of Modernity: In 2 vols / Eisenstadt S. N. (ed.). Washington Square, N. Y.: New York University Press, 1987; Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe / Grancelli B. (ed.). Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1995; Davies J. C. Toward a Theory of Revolution // American Sociological Review. 1962. Vol. 27. February. P. 6.
[19] Миронов Б. Н. Социальная история. T. 2. С. 264–270, 289–291; Хорос В. Г. Русская история. С. 41–60.
[20] Brinton С. The Anatomy of Revolution. Revised and Expanded Edition. N. Y.: Vintage Books, 1965. P. 60.
[21] Стародубровская И. В., Мау В. А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. 2-е изд. М., 2004. С. 418.
[22] Там же. С. 36.
[23] Там же. С. 39–40.
[24] Хантингтон С. П. Политический порядок; Хорос В. Г. Русская история. С. 14–18; Eisenstadt S. N. Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations. New York: Free Press, 1978; Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe / Grancelli B. (ed.). Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1995; Davies J. C. Toward a Theory of Revolution // American Sociological Review. 1962. Vol. 27. February. P. 6.
[25] Huntington S. P. Political Order in Changing Societies. Princeton: Yale University Press, 1968. P. 51.
[26] Olson M. Rapid Growth as a Destabilizing Force // When Men Revolt and Why / J. C. Davies (ed.). 2nd ed. New Brunswick: Transaction Publishers, 1997. P. 216.
[27] Boulding К. E. Conflict and Defense: A General Theory. New York: Harper, 1963.
[28] Шидловский С. И. Воспоминания. Берлин. Ч. 1. 1923. С. 5–6, 8.
[29] Освобождение. 1903. № 13. С. 207–209; № 23. С. 409.
[30] Освобождение. 1903. № 20/21. С. 361.
[31] Гилинский Я. И. Криминология. С. 99–154.
[32] Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности: (Современные буржуазные теории) // Б. С. Никифоров (ред.). М.: Прогресс, 1966. С. 44.
[33] Ревинский Д. О. Патентование изобретений в России (1812–1870 гг.) // Экономическая история. Ежегодник. 2001. М., 2002. С. 347.
[34] Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. СПб., 2005.
[35] Штомпка П. Социология. С. 563–564.
[36] Миронов Б. Н. Благосостояние. С. 670–671.
[37] Davies J. C. (1) Toward a Theory of Revolution. P. 5–19; (2) When Men Revolt and Why. New York: Free Press, 1971.
[38] Tilly Ch. European Revolutions. P. 243.
[39] Davies J. C. Toward a Theory of Revolution // When Men Revolt and Why / C. Davies (ed.). New Brunswick; L.: Transaction Publishers, 1997. P. 136.
[40] Бокарев Ю. П. Российская экономика в мировой экономической системе (конец XIX — 30-е гг. ХХ в.) // Экономическая история России XIX–XX вв.: Современный взгляд / В. А. Виноградов (ред.). М., 2001. С. 436–441.
[41] Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 328.
[42] Солоневич И. Л. Великая фальшивка Февраля // Бежин луг. 1992. № 1 [просмотр 01.12.2011: <http://lib.rus.ec/b/150740/read#t2>].
[43] Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 12.
[44] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2005. С. 123–124.
