Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».
Уважаемые читатели и авторы.
К вопросу о социальном делении общества РФ
В публицистике последних лет наиболее часто, наверное, употребляется термин «народ». На народ ссылаются как на действующее лицо, ему поклоняются, говорят от его имени, формулируют его проблемы, разоблачают его врагов. Причем, с одной стороны, осуждают его пошлые вкусы, порицают за пассивность, отсутствие интереса к политической жизни и т. д., с другой — апеллируют к нему как высшему судье. Каждая из партий также обращается не к определенному кругу избирателей, а непременно ко «всему народу». (Но если бы какая-то из них сконцентрировала свое влияние на одном дееспособном, даже относительно узком социально-профессиональном слое, с ней пришлось бы больше считаться.) Создается впечатление, что «народ» — некое абстрактное существо, и существо крайне неблагодарное. Оно никогда не отвечает взаимностью своим поклонникам (и уж во всяком случае тем, которые не находятся у власти).
Но если во многих отношениях население достаточно однородно, то интересы его разнонаправлены, и в политическом смысле такого субъекта, как «народ», нет. Группы и личности ранжируются по нескольким критериям одновременно, и «классовый» (в современном западном значении термина «класс» — «высший», «высший средний» и т. д.) в этом смысле — не самый важный.
Движения в направлении формирования социальной структуры «развитых стран», несмотря ни на какие «реформы», за два десятилетия практически не произошло, и общество в целом остается слабо дифференцированным. Оно по-прежнему представляет собой массу «советского народа», благополучие разных групп которого определяется не столько позиционно-статусными показателями, сколько принадлежностью к той или иной сфере деятельности: когда-то в более выгодном положении находились, например, работники торговли, а ныне — банковской сферы и нефтедобычи. Ни профессионально-должностной статус, ни уровень образования, ни квалификация не являются определяющими факторами. И неудивительно, что попытки применить к современному российскому (якобы уже «постсоветскому») обществу европейские понятия и мерки оказываются лишенными смысла.
Европейская модель стратификации предполагает совмещение выделенных по социально-профессиональному принципу полутора десятков групп с показателями образовательного уровня, в результате чего вычленяются шесть «классов». Например, в высший класс «А» включаются представители первой — пятой групп, имеющие при этом высшее образование второго уровня (магистратура), в класс «В» — представители тех же групп с высшим образованием первого уровня (бакалавриат), а также шестой и седьмой групп, но с высшим образованием второго уровня, и т. д. В Европе эта модель в общем и целом адекватна реальности. При попытке же применить ее к Российской Федерации, даже с учетом многочисленных оговорок, корректировок и скидок на наши реалии, обнаруживается, что эти шесть классов (сюда не входят малые в процентном отношении группы миллионеров и бомжей) по уровню доходов, сбережениям, имущественному потенциалу, приоритетности покупок и другим жизненным возможностям существенно не различаются (разве что полярные 1-й и 6-й классы, да и то не по всем позициям), и даже не прослеживается тенденции линейного нарастания показателей от класса к классу[1].
Особенно характерны, на мой взгляд, вопиющие диспропорции в доле высших классов: у нас по этой методике к классу «А» принадлежит каждый пятый россиянин, а к двум высшим — треть населения. Это, конечно, и смешно, и печально. По европейским понятиям, «профессионалы» (не только «имеющие собственный бизнес», но и «работающие по найму») с высоким уровнем образования безусловно относятся к классу «А», а прочие — по крайней мере к классу «В». Однако у нас «профессионалы» — это избыточная масса полуграмотных образованцев, из которых действительные «профессионалы» социально никак не выделяются (разве кому лично повезет). Если же учесть обилие руководящих должностей (а 1–6-я группы по европейской классификации — либо «профессионалы», либо «руководители») и нахождение очень большого числа лиц с формально высоким образованием вообще вне группы «профессионалов», то отсутствие заметной разницы между «классами» не должно удивлять.
К основным факторам, способствующим малой «качественной» ранжированности общества в РФ, относится система образования. Хотя в некоторых кругах и есть понимание, что ключевой функцией образования является вычленение элит, а эгалитаристское нивелирование образовательной системы представляет для нее как таковой большую опасность[2], на практике элитарное образование как институт у нас отсутствует. И за рубежом, в условиях господства «политкорректности», об элитарном образовании речь ведут обычно с оговорками, но там оно, тем не менее, есть. Конечно, само существование отдельного «элитарного» образования есть признак неблагополучия: настоящее высшее образование по сути своей уже элитарно, и до тех пор, пока таковым (настоящим) остается, никаких «особенных» добавок не требует. Суть его в том, чтобы учить именно и только тех, кто хочет и, главное, может учиться, давать сумму знаний качественно высшего для данной эпохи порядка тем, кто реально способен их усвоить (а таких в любом обществе лишь ограниченное число).
Попытка же вовлечь в процесс высшего образования большее число лиц, чем то, которое отвечает этим критериям — ради ли достижения социальной однородности, как в СССР, удовлетворения ли эгалитаристских инстинктов аутсайдеров, как в США, — профанирует и обесценивает само понятие высшего образования, поскольку оценки качества неизбежно подстраиваются под реальные знания выпускников школы (в ином случае 90 процентов из них пришлось бы отчислить, а тогда зачем было принимать?). Когда необходимость расширения сети высшего образования откровенно мотивируется интересами общественного спокойствия (лучше пусть в аудитории сидят, чем хулиганят на улицах), или оно выступает в качестве платы за несколько лет службы в армии по контракту, то понятно, какой может быть цена такого диплома. Естественно, возникает необходимость сохранить или создать хотя бы островки подлинного образования (какое и принято теперь называть «элитарным»).
К настоящему времени соединение советского подхода к развитию высшего образования с худшими западными тенденциями дало впечатляющий результат: РФ оказалась на первом (!) месте в мире по числу студентов на душу населения, опередив США и более чем вдвое превзойдя европейские страны. Показатель очень красноречивый и на самом деле наилучшим образом свидетельствующий о качестве образования: Северная Корея в свое время в 3 раза превосходила по «душевому» показателю Англию и Францию. (У нас, правда, северокорейский уровень качества еще не достигнут: в РФ, грея себя советской мечтой «догнать и перегнать», дали волю шкурным инстинктам дельцов и нищей профессуры, а там — просто государственным решением за год увеличили число вузов в 4 раза.)
Не удивительно, что в условиях объективной невостребованности на рынке труда избыточного количества дипломов низшие как по уровню благосостояния, так и по общественному престижу группы оказались переполненными людьми с формально высоким образованием. Едва ли возможно существенно изменить ситуацию введением «болонской системы», которая за рубежом отчасти выполняет необходимую социальную функцию сегрегации, выделяя из общей массы «лиц с высшим образованием» реально «продвинутых» (тогда как в РФ из тех, кто имеет формально одинаковые дипломы, едва ли 10 процентов существенно отличаются от лиц без диплома). Внедрение этой системы, возможно, имело бы какой-то смысл при соотношении бакалавр — магистр примерно 10 : 1, но у нас (в продолжение традиции «больше всех») численность магистров практически сразу же стала искусственно форсироваться.
Тем не менее в современном российском обществе существует как минимум три параллельные социальные стратификации: условно «имущественная» (по размерам дохода), «корпоративная» (по принадлежности к одной из ресурсных групп) и «сословная» (по принадлежности к социальному слою в масштабах всей страны). И если по уровню благосостояния и формальному образованию основная масса населения слабо стратифицирована, то это не означает, что столь же слабо разнятся интересы отдельных ее частей. В реальности внутри нее выделяются социальные и профессиональные группы, занимающие различное положение в обществе, неодинаково связанные с государством и имеющие разнообразные интересы. В зависимости от типа общества они могут быть обособлены в юридические группы (сословия) или существовать вне законодательного оформления.
Понятие сословия вообще достаточно неопределенное, но если вычленить общее и бесспорное в многочисленных его формулировках и толкованиях, то это прежде всего социальная группа, обладающая регламентированными законом правами и обязанностями и отличающаяся их совокупностью от других социальных групп данного общества. С другой стороны, не каждая социальная (а тем более профессиональная) группа, в отношении которой имеются какие-то законодательные акты, может считаться сословием. Существенно при этом, являлось ли целью законодателя определение места данной группы в социальной иерархии (сословные общества всегда иерархичны). По-настоящему сословными были только европейские традиционные общества Средневековья и Нового времени, а также некоторые древние и раннесредневековые общества, созданные индоевропейцами.
Совершенно очевидно, что независимо от используемой юридической терминологии общество может быть либо не быть «сословным», то есть невозможно положение, когда в обществе часть населения находится вне сословий или имеются одно-два сословия, а остальное население — «вне сословий». (В этом случае оно неминуемо также образует сословие, ибо противопоставляется в правовом отношении тем группам, которые признаются сословиями, — по этому принципу, в частности, выделялось «третье сословие» во Франции.) Если сословное деление непосредственно зафиксировано в законодательстве (дается перечень сословий), сословная стратификация общества не вызывает затруднений; сложнее обстоит дело, когда в обществе имеется ряд социальных групп с различным набором ограничений и привилегий, и особенно когда социальные группы выделяются по разным критериям и человек является одновременно членом нескольких групп, каждая их которых может в принципе претендовать на статус сословия.
Законодательство РФ, естественно, не признает наличия сословий (в качестве курьеза можно только указать на создание квазисословия в виде «казачества», которое лишь внешне напоминает прежнее сословие). Иногда сословиями полагают профессиональные группы, привязанные к одному из государственных ресурсов[3], но это скорее профессионально-отраслевые корпорации, сходные по идее с корпорациями обществ классического фашизма Южной Европы. Тем не менее такие корпорации, часто совпадающие с конкретными государственными или полугосударственными компаниями-монополиями (типа «Газпрома»), а иногда даже с государственными ведомствами (например, прокуратура), являются совершенно реальным фактором социального деления общества. Очевидно, что их члены имеют общий интерес, связанный с положением в стране и преуспеванием данной корпорации (общий уровень зарплат в них часто искусственно завышен по сравнению с другими отраслями). Естественно, что они политически поддерживают те шаги власти (инвестиции, привилегии), которые объективно направлены на процветание данной корпорации.
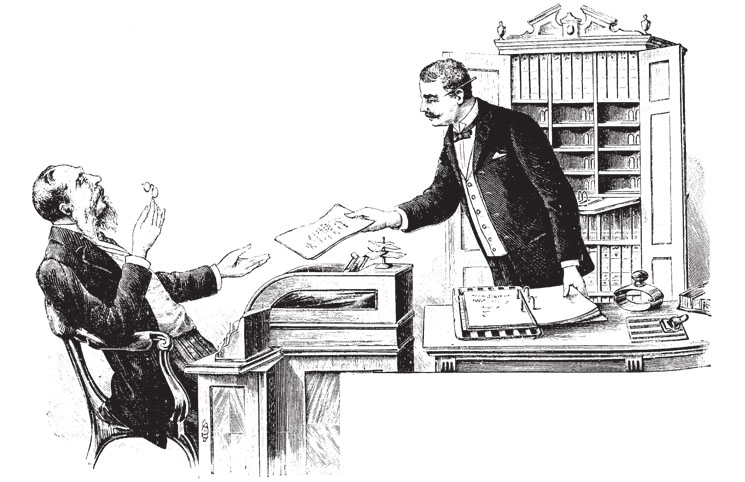
Однако параллельно профессионально-корпоративному объективно существует и профессионально-«сословное» деление (в смысле принадлежности к социально-профессиональной группе «всей страны», безотносительно к конкретной корпорации). Например, понятно, что уборщица или шофер «Газпрома» принадлежат к иной «сословной» группе, чем его же топ-менеджеры или «офисный планктон», а социальная разница, скажем, между офицерами или чиновни ками различной ведомственной подчиненности практически отсутствует, тем более что они свободно перемещаются из одного ведомства в другое, сохраняя свой статусный уровень.
«Сословность» во многом определяет бытовую культуру, психологию и представления о «должном» устройстве общества, что также оказывает влияние на политические взгляды человека. Принадлежность к корпорации может иметь в отдельных случаях более, в других — менее важное значение для политического позиционирования индивида, чем принадлежность к «сословной» группе.
В современном российском обществе просматриваются такие основные социальные группы (члены которых более или менее близки друг другу по культурным предпочтениям и психологии): неквалифицированные и подсобные рабочие; квалифицированные рабочие; наемные работники в сельском хозяйстве; самостоятельные сельские хозяева; мелкие предприниматели — индивидуалы и рыночные торговцы; служащие низшего звена и младший обслуживающий персонал; работники сферы обслуживания (продавцы, парикмахеры и т. д.); мелкие и средние предприниматели (имеющие наемных работников); офисные служащие частного сектора; учителя и преподаватели средних учебных заведений; врачи; инженерно-технический персонал; менеджеры среднего уровня; государственные чиновники (имеющие классные чины); офицерский состав силовых структур; ученые и преподаватели высшей школы; высшие менеджеры; крупные предприниматели.
В отношении «сословных» групп можно говорить и об определенной степени наследственности. В принципе прежние «настоящие» сословия были именно наследственными группами. Несмотря на то что они весьма широко пополнялись со стороны, попавшие в них передавали свой статус детям, и ядро сословия составляли его потомственные члены. Даже в советское время, вопреки идеологическим установкам и целенаправленной социальной политике власти, со временем проявилась отчетливая тенденция к комплектованию ряда престижных социальных групп из таких же или близких им по статусу (хотя СССР по историческим меркам просуществовал слишком короткий срок и лишь два поколения успели завершить свою карьеру). Например, такая группа, как ученые гуманитарных отраслей, со временем все больше комплектовалась из среды интеллигенции (по одной из них, среди родившихся в 1910-х годах — 57 %, в 1920-х — 75 %, в 1930-х — 80 %, в 1940-х — 84 %, в 1950-х — 93 %)[4], даже в таких больших группах, как медицинская и педагогическая, степень насыщенности выходцами из своего окружения была значительной. Особенно это стало заметным в 1970–1980-х годах, когда в жизнь начало вступать третье поколение советских специалистов. Весьма сильными были традиции семейственности в военной и дипломатической среде (к началу перестройки более 2/3 чинов МИДа имели родственников в той же системе)[1]. В определенной мере эта тенденция получила продолжение и в РФ (около 55 % генералитета оказались выходцами из офицерских семей), хотя новые реалии способствовали ее размыванию.
При этом, однако, осознание и формулирование своих особых интересов «сословными» группами весьма проблематично. Объективно такие интересы у различных групп как совокупности лиц, занимающихся определенного рода деятельностью, конечно же, есть. Подобно тому, как соседи-фермеры, ненавидящие друг друга из-за спорной межи, в равной мере заинтересованы в высоких закупочных ценах на сельхозпродукцию и низких — на топливо, так и интеллектуалы полярно противоположных убеждений равно нуждаются в том, чтобы их мнения были востребованы, их сфера деятельности имела престиж и т. д. Но если для некоторых из «сословных» групп эти интересы достаточно просты и в определенной мере могут выражаться, например, профсоюзами, то для большинства представителей интеллектуальных профессий само понятие «сословные интересы» непривычно. Не наблюдается поэтому и никаких течений в пользу самоограничения численности тех или иных профессиональных групп интеллектуалов (подобно тому, как на Западе корпорации врачей или юристов стремятся ограничить свою численность), то есть даже самых элементарных признаков самосознания. Это понятно. Во-первых, в условиях массовой профанации образования эти группы качественно неоднородны, а интересы подлинных интеллектуалов и массы малокультурных и невежественных образованцев в принципе различны — это разные социальные явления. Во-вторых, даже если речь идет об интересах качественно однородной общности, отстаивание их затруднено в силу того, что группа в масштабах страны достаточно велика и чаще всего не может быть должным образом организована, да и всегда найдется немалая ее часть, которая предпочтет предоставленные ей кем-то преференции «общесословным» интересам.
Не имеет в современных российских условиях ощутимых общих интересов даже такая «сословная» группа, как чиновничество. В общественном сознании сила и авторитарность власти обычно ассоциируются с размерами госаппарата, а роль и благополучие чиновничества — с его численностью. На самом деле ситуация скорее противоположная. Рост аппарата может иметь совершенно разные причины. Дореволюционная российская власть была одной из самых авторитарных в Европе, тем не менее, учитывая численность населения России, «на душу» приходилось в 5–8 раз меньше чиновников, чем в любой европейской стране. А вот после 1917 года установление тотального контроля социалистического государства над всеми сферами жизни мгновенно привело к невиданному разрастанию административно-управленческого слоя (если к 1917 г., по максимальным оценкам, число всех госслужащих составляло 576 тыс., то весной 1923 г., на сильно уменьшившейся территории, — 2,3 млн[6]). В 1990-х сфера государственного контроля сузилась, но число госслужащих не уменьшилось, а вскоре стало расти. Но теперь источником роста численности аппарата стал не тотальный госконтроль, а «развитие федерализма» — бесконтрольное со стороны центра размножение чиновников на местах.
При этом федеральные и местные чиновники не просто представляют разные уровни управления, а замкнуты на различные по своей сути структуры («коронную» власть и местных «баронов»), интересы которых (а с ними и самих чиновников) не сходны, и даже противоположны. Численность центрального аппарата относительно невелика — порядка 40 тыс. человек (причем в 2000–2004-м она была в среднем даже несколько меньше, чем в 1995–1999 гг.), а все чиновники федеральных органов составляют менее половины общего числа. Резкий скачок с начала 1990-х произошел за счет областных правительств и подчиненных им структур. И если центральная власть временами пыталась ограничить число госслужащих (и на некоторый период штаты федеральных ведомств действительно сокращались), то такие сокращения перекрывались безудержным ростом рядов служащих в субъектах Федерации.
В стране вообще отсутствует единая система государственной службы. Государственная служба субъекта Федерации представляет собой независимую от федеральной службу, организация которой находится в исключительном ведении самого субъекта (нанимателем провинциального чиновника по закону является не Российское государство, а местный «барон»); субъекты вправе учреждать органы управления и устанавливать их штаты по своему усмотрению (представьте себе 90 эмиссионных центров!), определять свой порядок поступления, обеспечения, исчисления стажа и т. д. (наряду с действительными государственными советниками РФ существуют действительные государственные советники такой-то области, которые плодятся по усмотрению самой области и соотношение коих с федеральной лестницей чинов никак не регламентировано).
Структура власти к первому десятилетию XXI века так и осталась по сути феодальной, с той разницей, что теперь обеспечена личная лояльность «баронов». Сохраняя же лояльность, последние могут оставаться полными хозяевами своих территорий, тем более что по советской традиции губернатор понимается как «крепкий хозяйственник». Но чиновник и «хозяйственник» — понятия несовместные. Если «хозяйствует» региональный «барон», а не десятки тысяч его подопечных, то никаких других хозяев, кроме бандитов и его приближенных, в области не будет.
Соответственно местные чиновники имеют значительно больше общих интересов с местными предпринимателями, замкнутыми на одного для них «хозяина», чем с федеральными служащими, представляющими интересы центральной власти. В повседневной жизни местные чиновники и предприниматели составляют один круг общения, и граница между ними достаточно условна, так как местная власть легко меняет их местами, назначая верных себе предпринимателей на государственные должности и обеспечивая верным чиновникам успешное ведение бизнеса.
Практически ни одна «сословная» группа в масштабах страны не выступает как единая сила — либо по невозможности организации, либо в силу острого соперничества ее отдельных составляющих. В условиях конкуренции за государственные инвестиции и привилегии служащие любого уровня каждой отраслевой корпорации имеют больше общих интересов с другими членами своей корпорации, чем со служащими аналогичного уровня другой. Даже чины федеральных силовых структур вовлечены в соперничество своего начальства, и антагонизм между МВД, прокуратурой и ФСБ проявляется со всей очевидностью.
В этих условиях реальными действующими лицами выступают именно профессионально-отраслевые корпорации, аккумулирующие интересы всех своих членов вне зависимости от их принадлежности к разным «сословным» группам. Они имеют своих лоббистов в представительных органах, собственные пропагандистские и охранные структуры, круг связанных с ними журналистов и деятелей искусства, с помощью которых стремятся оказывать воздействие на правительственные решения и формировать общественное мнение в свою пользу. Та же часть населения, которая к ним не принадлежит или принадлежит к общегосударственным структурам (в определенной мере также являющимся как бы профессионально-отраслевыми корпорациями), обычно весьма политически аморфна, как и сами эти структуры. Поскольку в системе по сути феодальных отношений отраслевые корпорации являются такими же ленными (пожалованными в теоретически бессрочное владение доверенным лицам) единицами, как и территориальные «баронства», но распространяют свою деятельность на всю страну, то, видимо, в обозримом будущем принадлежностью именно к ним будет прежде всего определяться политическое поведение большей части населения.
[1] Тихонова Н. Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа. М., 2007. С. 17–19.
[2] См., напр.: Протопопов А. Элитарное образование в эгалитарном обществе // Эксперт. № 40. 29 октября — 4 ноября 2007. С. 89.
[3] Кордонский С. Г. Россия. Поместная федерация. М., 2010. С. 45–46.
[4] Волков С. В. Интеллектуальный слой в советском обществе. М., 1999. С. 214.
[5] Волков С. В. Советский истеблишмент // Русский исторический журнал. 2001. № 1–4. С. 268.
[6] Изменения социальной структуры советского общества (1921 — середина 30-х годов). М., 1979. С. 150.
